












Виктор Андреевич Володин. Только правда, и ничего, кроме правды… (Воспоминания о моей жизни)
«Я уйду. А она останется.
Эта книга, неброско изданная,
но в которой лишь правда истинная,
и суровая, и печальная,
грозным временем отпечатанная…».
Ю.Левитанский
Мой отец Володин Андрей Иванович родом из села Кочергино Курагинского района (сейчас Каратузского района) Красноярского края. Это в 50 км на юг от г. Минусинска. Село стоит на берегу протоки речки Туба. Край, куда ссылали поляков, декабристов и революционеров, был заселен переселенцами из России и Украины, беглым и каторжным народом. Там никогда не было крепостного права. Суровый сибирский климат и просторы сформировали особый характер народа.
Родители моего отца - Иван Володин (отчества не знаю) и Акулина Александровна (девичья фамилия Кустова). Детей у них было семеро, четверо из которых умерли в детском возрасте. Сестра отца, Феня, умерла при родах в начале 20-х годов. Младший брат отца, Григорий, умер в начале 30-х годов от рака желудка, оставив троих детей - Лизу, Зину и Ивана, после войны моя связь с ними оборвалась.
Мой отец родился 4 июля 1892 года.
Предки Володиных и Кустовых, по словам бабушки Акулины, переселенцы из России. Я помню только прабабушку по отцу - Феодосию. Была она небольшого роста, добрая, тихая, прожила почти 100 лет. Умерла в начале 30-х годов прошлого века. Моего деда Володина Ивана не привлекало сельское хозяйство, поэтому в 1904-1905 годах он, взяв своего сына Андрея (моего отца), уехал в Манчжурию на заработки. В это время там начиналось строительство КВЖД (Китайская Восточная железная дорога). В 1906 году он был убит в Харбине. Я видел фотографию моего отца в четырнадцатилетнем возрасте, стоящего у гроба деда. Причину убийства не знаю.
Вероятно, еще при жизни деда, мой отец начал работать мальчиком в чайном магазине, поэтому после смерти деда хозяин фирмы большую часть заработанных отцом денег пересылал в село Кочергино для поддержания семьи, оставшейся без кормильца. Зарплата была в валюте (золотых рублях). Для деревни это были большие деньги, стоимость которых со временем увеличивалась. Поэтому бабушка с семьей жила безбедно. По рассказам отца, когда он начал работать, то почти ничего не получал, плохо питался и был плохо одет. Постепенно все выправилось. Он подрос, ему стали выдавать какие-то деньги. Перестал получать подзатыльники после того, как поднял упаковку чая в 6 пудов (примерно 100 кг), небрежно перекинул ее на другое место на складе.
Отец был одаренным человеком: пел, рисовал, имел способности к языкам и хорошие руки. Хотя он закончил только 4 класса деревенской школы, природный ум, любознательность и честность помогли ему стать отличным работником. Хозяин фирмы (по-моему, китайско-английской) его присмотрел и забрал к себе, как я понимаю, в центральный офис фирмы, находящийся в г. Ханькоу. Постепенно отец продвигался по служебной лестнице. Изучал китайский и английский языки. К своему 22-летию служил старшим продавцом, иногда оставался за приказчика. Получал приличную зарплату, хорошо одевался, играл в теннис, объяснялся на английском и китайском языках, читал по-английски. Хозяин ценил его, поэтому, когда отца призвали на действительную службу в армию (в 1915 году) и он вынужден был уехать в Россию, хозяин сохранил ему зарплату, которую выплачивал, наверное, до 1919-1920 гг., вероятно, в надежде, что он вернется работать на фирму.

Андрей Иванович Володин, 1917
Служил отец в Иркутске рядовым вольноопределяющимся солдатом. В 1916 году получил право на управление автомобилем (этот документ сохранился до сегодняшнего дня). В это время он познакомился с моей мамой - Марией Дмитриевной Подлесных.
Моя мама родилась 13 марта 1898 года (по-моему, в селе Тесь - или где-то рядом в этом районе), т.е. недалеко от села Кочергино. (Почему я так думаю, скажу после). У ее матери Ефимии Максимовны было трое детей - старший Степан, средний - Леонид и младшая - Мария, моя мама. Когда матери было около четырех лет, Ефимия Максимовна вместе с детьми, по не известным мне причинам, убежала от мужа. Как рассказывала мама, Ефимия запрягла рысаков, посадила детей в кошёвку, уехала в Минусинск (60-70 км), продала лошадей и кошёвку, купила билеты на пароход и отправилась с детьми в Красноярск, а затем на поезде в Иркутск. Там она в богатой еврейской семье вела домашнее хозяйство. На заработанные деньги через некоторое время завела свою лавочку. Леня учился на кондитера. Мария, моя мама, ходила в школу два года. О самом старшем брате - Степане - мама не рассказывала. Бабушка Ефимия заставляла маму торговать в лавке и перестала отпускать в школу. По словам мамы, она хотела иметь возможность свободно жить, а дети ей мешали. Вероятно, по этой причине мама ушла от своей матери и устроилась работать в магазин - стала жить самостоятельно. Ей тогда было 16 лет. Это всё, что я знаю о своей бабушке Ефимии. Нам, детям, мама ничего больше не рассказывала. Со своей матерью не общалась и не переписывалась, но поклялась себе, что будет жить для детей, что и выполняла до конца своей жизни.

Мария Дмитриевна Володина (Подлесных), 1918
В 1916 г. она познакомилась с отцом, который служил в Иркутске в армии. После Февральской революции 1917 г. солдатам разрешили жениться. Отец и мать обвенчались. Перед тем, как уйти на фронт, отец отвез маму в село Кочергино к своей матери. Молодая, девятнадцатилетняя, она не знала деревенской жизни и не умела выполнять крестьянскую работу. У нее даже не было для этой жизни одежды! Свекровь, Акулина Александровна, обладала жестким и властным характером. Невестка ей была совершенно чужим человеком, да еще и претендовавшим на ее сына и его деньги, на которые она до этого жила безбедно.
Мама об этом периоде жизни почти ничего не рассказывала, но из скупых сведений было понятно, какое суровое обучение крестьянской жизни и крестьянскому труду она получила. Насколько я знаю, в это время она переболела тифом. Феня сочувствовала ей и поддерживала, мама всегда вспоминала о золовке с большой теплотой.
После Октябрьской революции, тоже переболев тифом, отец вернулся с фронта в Кочергино. По возвращении некоторое время работал на мельнице неподалеку - до тех пор, пока партизаны Щетинкина не разгромили ее. Работать стало негде, отец с матерью и двумя детьми - Галей и Людой снова перебрались в Кочергино.
Вероятно, в это время отцу пришлось перестраивать дом, который построила его мать на деньги, присланные отцом из Китая, в связи с тем, что брат отца Григорий женился, и у него уже были дети. Для перестройки дома нужен был лес, за ним ездили в тайгу. Лес сплавляли по реке Туба. Дом был построен «крестовый», перестраивали его на две равные части. И дом, и усадьбу поделили пополам, посередине усадьбы выкопали колодец. Отец брался за любую работу (бондарил, помогал в землеустройстве), заводил свое хозяйство. В это время от кори умерла Галя - моя старшая сестра, родилась Женя, а потом уже и я.
Родился я 15 января 1925 года в с. Кочергино в крестьянском доме моего отца. По христианскому обычаю через неделю после рождения нужно было крестить новорожденного. В эти дни в стране отмечали годовщину смерти В.И.Ленина. Крестины всячески преследовались. Отец договорился с батюшкой, привез из церкви купель. Мама, конечно, ее чистенько помыла.
Батюшка - Барков Всеволод Николаевич (1890-1963) - был хорошим знакомым семьи. Он пришел к нам домой и окрестил меня в большой комнате. Крестной матерью стала старшая сестра Люда (ей было тогда 4 года), а крестным отцом - сам отец Всеволод. Он вел службу и помогал Люде носить меня вокруг купели.
Начался НЭП (новая экономическая политика), кончились продразверстки, у крестьян уже не отбирали хлеб. Село перестало голодать. Это отразилось и на жизни моих родителей. Тем более, что они к тому времени уже научились вести хозяйство. Питались мы хорошо. Было все свежее, чистое и сытное - из своего хозяйства.
Рос я нормально, только сильно держался за маму и, как рассказывали взрослые, грудь сосал чуть ли не до 3-х лет, а когда заговорил, любил рассказывать небылицы «из своей жизни». Маме по хозяйству и уходу за детьми помогала какая-то дальняя родственница, одинокая и очень добрая женщина Агафья Ивановна. Мы, дети, ее очень любили, и я ее часто вспоминаю. Была она, если мне память не изменяет, родом из села Тесь, поэтому я убежден, что и мама родилась в этом селе. Дети постепенно подрастали. Люда пошла в школу.

Люда, Женя, Витя. Село Кочергино. 1929 г.
Отца, как грамотного человека, часто привлекали к общественным работам по делопроизводству, учету и обмеру земли в сельский Совет. Жизнь родителей в селе Кочергино постепенно налаживалась, но и работали они много. Из таких грамотных и разумных, хоть и временных жителей села, по рассказам Люды, было организовано «Товарищество по совместной обработке земли», чтобы в складчину приобретать необходимые механизмы и совместно их использовать для сельхозработ.
Но началась коллективизация. Отца стали привлекать к работе в комиссиях по раскулачиванию и склонять к тому, чтобы на базе товарищества создать колхоз. Однажды, после его участия в работе такой комиссии, пришли родственники раскулаченных и пытались вызвать отца на улицу. Но он не вышел к ним. Тогда они начали стрелять по воротам.
К 1929 году у отца с матерью было трое детей и «большое» хозяйство - полдома, две лошади, две коровы, сеялка, сепаратор, несколько десятков кур. На дворе каменная кладовая, деревянные постройки (навес, конюшня, коровник, баня). Все было сделано своими руками. Мать и отец содержали дом и хозяйство в образцовом порядке. Только на разовые работы отец нанимал помощников, всегда честно с ними рассчитывался. Никто из работающих у отца при коллективизации на него не пожаловался.
Мать насмотрелась, как раскулачивают, все отбирают и ссылают на север тех, кто ненамного «богаче» нашей семьи, и убедила отца, что надо уезжать в город. Люде было восемь лет, Жене - шесть, мне – четыре. Люда уже ходила в школу. Родители считали, что детям нужно учиться и решили из деревни уехать. Стрельба по воротам была последней каплей. Родители потихоньку собрались и затемно выехали из деревни. Ехали обозом на своих и нанятых лошадях. Коровы шли за телегами, кур везли в коробе. Ехали медленно: 50 км прошли за два дня. В Минусинске сняли комнату, в которой прожили до зимы. В городе отец работал в артели каменотесом: делал бруски для заточки кос и ножей, точила и даже обрабатывал жернова для мельниц. Сделал плиту на могилу Гали (она похоронена на кладбище в с. Кочергино). На плите были выбиты надпись и роза.
Жили бедно. Продали одну лошадь. Из комнаты переехали в маленькую избушку, продали одну корову. Затем через год, когда наступили 30-е голодные годы, сняли другую избушку на улице Городчанской, где был сарай и огород. Мы, дети, поливали огород. Отец ездил в Кочергино, пахал и сеял пшеницу.
В 1930-32 годы отец стал работать счетным работником на пивзаводе, там разводили кроликов. Отец и мать тоже начали разводить кроликов. Этот промысел давал мясо и шкурки, которые отец выделывал и сдавал, получая взамен продукты. Мама пошла работать на пивзавод - ухаживала за кроликами. Из деревни приехала бабушка Акулина, но прожила у нас недолго - у нее был очень тяжелый характер. Она никого никогда не любила, курила, любила хорошо поесть (весила 6 пудов – около ста килограммов), не стеснялась своего веса. Через год уехала назад в деревню, где работала на колхозной пасеке. Несколько лет спустя она умерла. По-моему, дядя Гриша умер даже раньше нее. Лошадь отец продал. Продали и половину деревенского дома, которая принадлежала отцу. Всё проедали. Отец постоянно подрабатывал, одно время работал столяром - делал корпуса для напольных весов.
В 1932 году мама присмотрела небольшой недостроенный домик недалеко от того места, где мы жили. Стоял он неогороженный, без крыльца. Но возле него был большой участок земли. Хозяева срочно уезжали и готовы были подождать с частью оплаты. Мама уговорила отца купить домик, родители продали какие-то вещи и внесли первый взнос. Домик стал нашим. В нем было три помещения. Кухня с русской печью, которая топилась дровами. За печкой умывальник. Маленькая комната с одним окном для Люды и Жени и большая комната на 4 окна, где спали родители. Я спал на кухне на диване. Все три комнаты отапливались одной круглой печью, покрытой листовым железом. Печь называлась голландкой, топили ее каменным углем, а растапливали дровами. Естественно, все "удобства" были на улице. Воду для хозяйства брали из речки Минусинки, которая протекала рядом с домом, а воду для питья и приготовления пищи возил водовоз или сами приносили (или привозили) с протоки Енисея. Расстояние до протоки примерно с километр. План родительского дома привожу по памяти.
Отец сменил работу. Работал в промкооперации и больнице, пошел на курсы бухгалтеров и окончил их. Обустроил дом, пристроил сени, выкопал подвал, огородил участок, сделал стайку для коровы и навес для сена, перекрыл дом. Все время подрабатывал. Обязательно сажали картошку, умудрялись даже сеять пшеницу, получали землю под бахчу и под покос. Видимо, поэтому он и работал в промкооперации. Мама развела огород. Продавали огурцы и помидоры. Мы, все дети, помогали в меру своих сил.
Все это время родители держали сначала двух, а затем одну корову - звали ее Краснушка. Она давала очень хорошее, жирное молоко, но была уже не молодая. Для ее замены оставили молодую телочку. Родилась эта телочка зимой и до весны жила в доме около печки. Как самый маленький, я за ней ухаживал. Назвал я ее Нелькой. У Жени была подруга с таким именем, которую я не любил. Постоянно общаясь с людьми, телка переняла многое и многому научилась. Открывала любые запоры на воротах, жевала бумагу и белье, бодалась. Но давала много хорошего молока, была ласковой, умной коровой. Когда Нелька подросла, Краснушку продали. Часть молока мама продавала, и это давало возможность покупать корм Нельке и продукты нам. Но перед войной перестали выделять пастбища для выпаса коров, и содержать их стало трудно. Нельку продали и купили козу. Однако еще несколько лет до нас доходили слухи о Нелькиных проделках: то она умудрилась съесть пачку денег у зазевавшейся хозяйки, то ушла из дома и разграбила колхозное сено, вволю наевшись. Хозяйки ей все прощали за хорошее молоко. Коза нас выручила: она давала полтора-два литра молока и была неприхотлива к корму. Козье молоко стало большим подспорьем в нашем питании.
Несмотря на загруженность, отец выкраивал время и ходил на репетиции Минусинского театра, где он играл в любительской труппе. Отец, как я уже говорил, вообще был одаренным человеком - неплохо пел, играл на мандолине, балалайке, рисовал. Мог все сделать своими руками. Еще в деревне он из тальниковых ветвей сделал гнутый мебельный гарнитур, состоящий из стульев, письменного стола, полочки, этажерок и еще, кажется, диванчика. Гарнитур мама продала в 1963 году перед отъездом в Горький. Последнее время, перед арестом, отец работал бухгалтером на радиоузле. Работа была почти рядом с домом. Отец стойко переносил большие нагрузки, я не помню, чтобы он когда-нибудь болел. Только иногда жаловался на боли в правом плече и спине.
Несмотря на трудности жизни, нехватку продуктов и денег, постоянную загруженность работой, мы, дети, никогда не слышали, чтобы родители раздраженно или грубо говорили. Я до сих пор не могу понять, как у них хватало сил так ладить друг с другом!
Подошел суровый 1938 год. Репрессии шли полным ходом, но в нашей семье их не ожидали, как, впрочем, и в других семьях. Честные люди считали себя ни в чем не виноватыми. Анализируя события того времени, я могу изложить свой взгляд на то, как они развивались.
За несколько месяцев до ареста отец (как и все сотрудники радиоузла) заполнил какую-то анкету, в которой подробно ответил на вопросы о своей предыдущей жизни и о родственниках. Отец, естественно, честно рассказал о своей жизни в Манчжурии, Китае и работе в китайско-английской чайной фирме. НКВД просмотрело эти бумаги - тех, кто жил когда-то за границей, в Минусинске набиралось немного, а план по выявлению врагов народа - шпионов нужно было выполнять. Участь отца была предопределена…
К моменту ареста отца Люда заканчивала десятый класс, Женя - восьмой, я - шестой. Никто и подумать не мог, что в нашу семью войдет этот ужас. И когда к нам вечером пришли с обыском… Все было, как сон.
Арестовали отца 3 марта 1938 года на работе. Осмотрели его рабочий стол, но ничего не нашли, т.к. после этого нам выдали его зарплату. Домой его не завели, а увезли прямо в НКВД. К нам домой зашли с понятыми уже часов в 17-18. Спросили про оружие, которого не было. Поверхностно осмотрели нашу избу, посмотрели, что хранится в комоде для белья. Следователь все внимание сосредоточил на выдвижных ящиках письменного стола. Там хранились фотографии, альбомы, какие-то документы, переписка. Возможно, там были старые письма из фирмы. Ничего больше следователь не смотрел, и только при зачитывании протокола обыска мы узнали, что отца арестовали. Ушли они уже поздно ночью.
Много раз мы с мамой носили в тюрьму передачи, которые очень редко принимали. Тюрьма находилась за протокой Енисея на острове Тагарском, километров в пяти-шести от нашего дома. Никаких сведений об отце ни от следователя, ни от самого отца мы не получали до самой осени.
Только в августе 1938 года разрешили нам передать отцу продуктовую передачу и получить от него записку. В записке отец просил его ни в чем не винить и наказал нам, детям, учиться в институтах и предложил следующую схему: Люда работает два года и едет учиться. Женя к этому времени закончит школу и начнет работать. Проработает два года и тоже едет учиться. Затем наступит моя очередь. Так мы в дальнейшем и поступили. Люду, сразу же после выпускных экзаменов летом 38-го года, директор школы направила в Красноярск на курсы при институте повышения квалификации народного образования (ИПКНО). Окончание этих курсов к началу учебного года позволило ей преподавать математику в старших классах своей школы.
Несмотря на все старания мамы, никаких передач отцу больше не принимали, а
через некоторое время стали отвечать, что Володин Андрей Иванович осужден на
большой срок и выслан в исправительные трудовые лагеря (ИТЛ) без права
переписки.
В какие лагеря? Куда? На эти вопросы никто не отвечал. Отвечали, что из
минусинской тюрьмы он выбыл, куда – неизвестно. Вот и все.
Жизнь шла своим чередом. Как я закончил шестой класс и перешел в седьмой – не помню. По школьной традиции классы с буквой «А» формировались из успевающих, интеллигентных дисциплинированных детей, имеющих родителей, занимающих руководящие должности. В классы с буквой «Г» отправляли всех нерадивых, неуспевающих переростков, второгодников и таких как я. В моем 7 «Г» я учился сносно, за что и был выбран старостой класса, хотя был самым младшим. Успеваемость в классе была «не приведи Господь». По какому-то поводу в школе проводили соревнования за успевающий класс. Я, по простоте душевной, занялся искоренением в нашем классе немеренного количества неудовлетворительных оценок. Работал усердно: убеждал учиться, сам занимался с теми, кто просто не понимал заданий. Просил преподавателей вызывать к доске неуспевающих для исправления отметок.
Надо отдать должное, в какой-то момент наш 7 «Г» стал классом, в котором не было учеников с неудовлетворительными отметками. Во всей школе такой класс был один. Благодарности класс не получил – руководство соревнованием посчитало, что перед соревнованием у многих были неудовлетворительные оценки. Про меня же сказали: «Сын врага народа, что хочет, то и делает. Весь класс ведет на поводу». Так я впервые получил за свою неполноценность и сделал выводы:
- отойти от общественной работы;
- уйти из этого класса;
- лучше учиться;
- заняться спортом для укрепления мускулатуры (бег, гири, лыжи, турник,
акробатика);
- больше читать (позже все свободное время проводил в Мартьяновской библиотеке).
Все это давалось нелегко, так как я рос «фитилястым», неловким пацаном, которого мама не отпускала одного на речку, в компанию хулиганистых ребят, просто далеко от дома. Все намеченное выполнял, так как понял, что надеяться мне нужно только на себя.
Летом 1939 года мама (в первый раз) отпустила меня в Красноярск на соревнования по легкой атлетике в составе минусинской команды, состоявшей из учеников нашей школы №3 и нашего класса 8 «А». Руководил нами и обучал учитель физкультуры нашей школы. Мы заняли второе место по краю, я занял тоже второе место в беге на 1000 метров. В этом классе я проучился до окончания десятилетки.
В 1940 году Женя окончила школу на «отлично» и начала работать. В Минусинске в это время работали красноярские девятимесячные курсы повышения квалификации учителей. Женю взяли туда учиться, несмотря на то, что до окончания курсов оставалось меньше двух месяцев. За полтора месяца Женя сдала экстерном экзамены за весь курс и начала работать в школе, где раньше училась сама. Стала тоже преподавать математику.
Люда уехала в Томск, поступила в Томский государственный университет.
Все пошло по папиному плану.
Мама занималась огородом, я, в меру сил, ей помогал. Выращивали огурцы и помидоры. Мама продавала их на базаре. Это было хорошим подспорьем нашей семье.
От отца никаких сведений не получали. Уже как-то примирились с судьбой, но началась война, и все снова перепуталось.
К началу войны я окончил девять классов, Люда - первый курс Томского университета, Женя проработала один год в школе. Начались военные годы. Люду и Женю отправили на работу в колхозы. Я вместе со всем классом тоже работал на уборочной в колхозах под Минусинском. Продукты стали очень дорогими, хлеб выдавали по карточкам. Насколько я помню, нормы были такими: 600 граммов получали рабочие, 400 граммов иждивенцы, студенты и служащие. Люда приехала в Минусинск и с трудом устроилась учительницей в селе Городок, в 25 км от города. Из магазинов все исчезло - не было даже спичек. По просьбе мамы я сделал кресало *, пристроил к русской печке плиту, которая топилась дровами, щепками, шишками, кизяком и другим «горючим» материалом. На этой плите всю войну готовили еду. Керосина для примуса не было. В нашем доме в маленькой комнате поселился офицер Арнольд Михайлович - инженер-механик из Москвы. Платил он за жилье дровами и углем, иногда приносил керосин. Так мы прожили первую военную зиму.
Почти всех ребят, достигших восемнадцати лет, забирали на фронт, но мне и моему другу Володе Нилову было еще 17. Я закончил школу №3 в начале июля 1942 года, а во второй декаде июля начал работать - по рекомендации отца Володи Нилова мы поехали в тайгу на реку Ою сплавлять лес в Минусинск для предприятия, где он работал. На лесосплаве мы получили первое рабочее крещение. В школе я серьезно занимался спортом и был вполне тренированным, но худеньким пацаном. За свою первую рабочую неделю похудел на 6-8 кг. Работа была простая, но требовала сноровки, смекалки, силы, навыков обращения с топором, вязки плотов и управления плотом на быстрой полноводной реке. Конечно, всего этого я не умел - учился всему на ходу. Учил нас уму-разуму лоцман - здоровенный мужик в годах (мы ему едва доставали до подмышки!) - кулаки у него были с наши головы. Как и что нужно делать, показывал и объяснял не больше одного раза. А получается-то все не сразу… Работаем на бревнах, которые плавают в воде ничем не связанные, а вязать их нужно вицей - молодой березкой, скрученной как веревка, и скреплять клином. Это только один вид работ. И вот ты, молодой «умелец», пытаешься связать вицей расплывающиеся бревна полчаса, час… Все это время лоцман тебя материт. Ругался он виртуозно - за час и больше не повторялся, все складно, все к месту. За этот час он хорошо и доступно объяснял, кто ты есть на самом деле. За всю мою большую жизнь я ни разу больше не встречал такого великого матерщинника!
Наконец, плот готов. Изготовлены и установлены греби **, связаны звенья. Все это сооружение длиной 30-40 метров, шириной 4-5 метров, весом за 50-60 тонн идет по воде быстрее течения. И им нужно управлять! В верховье Енисея в Саянах в это время тает снег и по реке течет высокая, так называемая, коренная вода. Температура ее - дай бог! - 4-5 градусов. Когда плот налетает на затопленные острова, поросшие кустарником, его надо освобождать - приходится бродить по пояс и выше в талой воде.
Выходили с Ойской гавани в три часа утра, приплывали в Минусинск поздно вечером. Все это время - беспрерывная работа у греби. Но самое главное, нас сытно кормили и платили какие-то деньги, так что свои рабочие карточки мы смогли оставить дома и наши семьи получали немного больше хлеба. Работали так до половины сентября. Сплав кончился, и мы с Володей Ниловым нанялись в колхоз неподалеку от Минусинска. Председателем колхоза была женщина по фамилии Дадер. В качестве основной зарплаты нас довольно прилично кормили. Карточки мы снова оставили дома. Делали все, что было необходимо: формовали саманные кирпичи - тысячами! - из глины, соломы и отходов после молотилки, косили траву на сено, пшеницу - на «гробки» ***, а женщины за нами вязали снопы. Жили на сеновале. Так проработали до октября. За мою работу Дадер отдала маме несколько десятков килограммов пшеницы, когда я уже служил в армии. В то время это была огромная ценность - вот почему я это помню!
После работы в колхозе, по совету отца Володи Нилова, мы поступили в школу механизации сельского хозяйства на курсы шоферов. Там давали рабочую карточку, по которой можно было поесть супа. Изучали автомобили, работающие на бензине и на деревянных чурках, - так называемые газогенераторные. Учился я прилежно, курсы окончил к новому, 1943 году. Устроился (или меня направили) в горавтотранспорт стажером на газогенераторную полуторку. Водителем на ней был небольшого роста шустрый и деловой мужик, хорошо знающий машины, имеющий большой жизненный опыт. От него я многое перенял и многому научился в вождении и ремонте машин. Ездили мы на деревянных березовых чурочках, заводили машину на бензине. Хранение машины было безгаражное - хорошо, если под навесом, или в неотапливаемом гараже. Морозы той зимой стояли от -30 до -40 градусов. Рейсы были по 120 - 150 км по Минусинскому району и Хакасии.
В начале марта 1943 года мне пришла повестка явиться 8 марта в г. Абакан в военкомат для отправки к месту службы. Мне отметили окончание прохождения стажировки, выдали какую-то зарплату. Вечером 7 марта мы с Володей Ниловым пошли на вечер в школу медсестер, где учились наши одноклассницы, потанцевали и попрощались с ними. Простились мы и с Володей. Зашел домой, надел робу, в которой шоферил (рубашки, какие у меня были, отдал сестрам на кофточки, маме отдал теплую тельняшку), взял приготовленный мамой вещмешок с продуктами, зашел к ней на работу (она дежурила вахтером в школе шоферов), попрощался и пошел на встречу с ребятами, призванными в этот день. Так, часа в четыре утра мы отправились пешком по льду протоки Енисея, затем по самому Енисею, затем по реке Абакан в город Абакан (примерно 18 км) в военкомат. В этот день я закурил и курил до конца войны. В Абакане до погрузки в вагоны я успел обменять документы - «стажерку» на права, где стоял штамп «с правом управления газогенераторным автомобилем». Эти права сохранились до сих пор.
Добрые советы, которые давал отец Володи Нилова, очень помогли мне
подготовиться к предстоящей военной жизни. Я благодарен ему за это и буду
помнить его всегда.
____________________________________
*) Кресало - приспособление для добывания огня. Состоит из прочной стали, куска
кремния и фитиля.
**) Гребь - большое весло, сделанное издлинного бревна для управления плотом.
***) Косить на "гробки" - косить вызревшую пшеницу или рожь косой, к которой
прикреплены специальные грабельцы, позволяющие укладывать скошенную пшеницу
ровными рядами.
В январе 1943 года, когда немцы были еще в Сталинграде, а мне только что исполнилось 18 лет, у нас с мамой состоялся разговор о предстоящей службе в армии. Поводом для разговора, наверное, послужило обсуждение перечня вещей, которые я возьму с собой на фронт. Все собиралось заранее - мешок с лямками (сидор) уже был заготовлен, нужно было взять немного еды, махорки, бумагу, карандаш, носовые платки. Мешок выставляли на мороз, чтобы продукты не испортились. Надежды на возвращение живым и здоровым практически не было. Мама мне тогда сказала, что она надеется на меня, что я ее не опозорю. Сказала спокойно, без слез и причитаний. В ответ на ее слова я прочитал стихотворение К.Симонова, написанное в 1941 году:
"Жди меня, и я вернусь,
Всем смертям назло.
Кто не ждал меня, тот пусть
скажет: «Повезло…».
Не понять, не ждавшим им,
Что среди огня, ожиданием своим
Ты спасла меня.
Как я выжил, будем знать
Только мы с тобой.
Просто ты умела ждать,
Как никто другой..."
Так вот, как я выжил, знаем только мы с моей мамой. Наверное, она умела ждать. И ждала больше, чем могла…
Погрузка в вагоны на вокзале г. Абакана была поздно вечером. Грузили в обыкновенный пассажирский поезд. Контингент был разношерстный - основу составляли мальчишки 1925 года рождения. Большинство ребят было из деревень. Посадка проводилась довольно организованно. Поезд направлялся по маршруту Абакан - Ачинск- Новосибирск - Бердск. В пути находились около двух суток. Безобразия начались с первых же суток. Сначала грабили базары - забирали все, что видели (а выносили продавать женщины вареную картошку, продавать-то больше было нечего… Ну, может, какие-то пирожки). К вечеру и ночью начался повальный грабеж. Устроили его городские, грабили деревенских - отбирали все, что хотели. Организаторами, как я понимаю, были ребята, уже побывавшие в лагерях. О прохождении нашего поезда обслуга дороги, наверное, сообщала по железнодорожной связи, т.к. торговки уже разбегались до прихода нашего состава.
По приезде в Новосибирск нам отвели какое-то большое помещение, и там началось обратное. Среди деревенских ребят нашлись какие-то командиры, они организовались, начали вылавливать своих обидчиков и бить. Довольно быстро всех усмирили, поделили на группы (по-моему, без всякой записи фамилий, а просто поштучно), начали появляться «покупатели», разбирать нас и уводить по подразделениям. Так я попал в Бердский учебный лагерь. Загнали нас за какую-то загородку, к которой подходили вольные (в смысле гражданские люди) и старались выменять что-то из нашей одежды на махорку, деньги или хлеб. Я тоже сделал какой-то обмен. В баню нас повели к ночи (километра за 2-3). Баню - «вошебойку», стрижку, ожидание обмундирования я выдержал стойко. Бросил мне старшина одежду более-менее сносную, только ботинки были разного размера, но все-таки на обе ноги, т.е. и на левую и на правую. А самое главное - новые длинные обмотки, которыми я пользоваться не умел, но как-то обмотал ими ноги. Ночью привели нас (пулеметную роту) 250 человек в казармы - землянку, разгороженную пополам, с трехэтажными нарами, дровяным отоплением - железной бочкой, стоящей посередине этого помещения. Утром в 6 часов подъем. Оделись не спеша, вдруг снова объявляют – отбой! Разделись, легли. Проверили, что все раздетые. Кое-кто и задремал! «Подъем!» И так раз пять.
Нас разбили по взводам и отделениям. Младшие командиры были из старослужащих, которых по каким-то причинам не отправили на фронт. Никто сейчас себе не может представить, как они старались на нас выслужиться, только бы не попасть в маршевую роту на фронт. Командиром роты был раненый летчик, которому вся наша рота была нужна, как прошлогодний снег. Началась беспросветная муштра на свежем воздухе и в казарме. Март стоял суровый - 30-40 градусов. Тогда я обморозил пальцы на ногах, но к врачу не записывался. Видел, как записавшихся выводили из землянки, заставляли ложиться на снег и ползти по-пластунски по 200-300 метров. Пробыл я в пулеметной роте около месяца. За это время я ни разу не ел сидя, не был в бане, и серьезно думал, что блохи перегрызут меня пополам. Блох было столько, что, когда мы вытряхивали на морозе простыни, то снег становился серым. За этот месяц мне уже было все нипочем. Однажды за перегородкой, в другой половине землянки, душили солдата за пайку хлеба, но во мне ничего не шевельнулось. Я мог бы залезть в пулеметное гнездо немцев с одним ножом и вырезать всех, если бы мне это удалось. Хочу описать столовую на тысячу человек, которая размещалась в колоссальной землянке. Ни скамеек, ни стульев в ней не было. Были высокие стойки, чтобы солдат мог есть стоя, не нагибаясь. Длиной они были метров по шесть. С каждой стороны стола размещалось по 10-12 человек (целое отделение). Ложку брали из-за обмотки, шапку зажимали между ног. Хлеб делили. Быстро поедали суп из мороженой картошки и овощей, какую-то кашу с постным маслом и так называемый чай - с сахаром, за который я выменивал махорку. Есть хотелось всегда. В столовой постоянно стоял туман. Столы покрывались тонкой корочкой льда - столовая не отапливалась. Тарелки были штампованными из оцинкованного металла и хорошо скользили от разводящего по столу.
Однажды к нам в роту пришли «покупатели» из Новосибирского автополка. Стали отбирать трактористов, комбайнеров для переобучения на шоферов. В это время по ленд-лизу СССР стал получать много разных автомашин для армии. Я, конечно, постарался попасть на эту распродажу, но меня не взяли, потому что имел десятилетнее образование. С таким образованием они набирали в школу младших командиров. Туда с моей биографией (отец сидел по 58 статье как контрреволюционер) мне никак нельзя было даже пытаться попасть в какие-нибудь командиры, не угодив в штрафбат. Испросив разрешения у командира роты, я обратился еще раз к полковнику, командовавшему набором, показал ему права, он удивился, что они еще и с правом управлять газогенераторным автомобилем. Он сказал, что может меня взять, но должен указать, что у меня образование не выше шести классов. Я, конечно, согласился. Так до самого окончания войны везде писал, что образование у меня 6 классов. «Покупатели» забрали нас, и мы пешком ушли к новому месту службы - в Новосибирский учебный автополк. Жили в трех- и четырехэтажных казармах с центральным отоплением, повзводно (по 30-40 человек), спали на двухэтажных нарах с нормальным бельем, мылись в бане, ели уже сидя. В нормальных классах знакомили нас с устройством и обучали вождению автомобилей - сначала наших отечественных. Мне все это было знакомо, иногда даже что-то рассказывал вместо преподавателя – о маслоснабжении автомобиля, электроснабжении и работе других узлов автомашин. Служба стала для меня нормальным делом. Был в наряде на кухне - напек 1500 пончиков!
На 1 мая 1943 года был назначен в почетный наряд по казарме. Прямо с наряда меня вызвал политрук и сообщил, что я зачислен в маршевую роту для отправки на фронт. Узнав, что еще не принял присягу, увел меня в Красный уголок, где перед красным знаменем и под каким-то портретом (Сталина или Ленина) я прочел присягу и расписался. Старшина быстренько соорудил сухой паек, и меня проводили к отправляющимся на фронт шоферам, которых было около 1000 человек. Погрузили нас в теплушки - получился целый эшелон. Ехали не менее двух недель. Иногда нас кормили на станциях или приходилось готовить еду на кострах. Привезли нас в Коломну. За нами пришли «покупатели», нас построили и они стали выбирать себе шоферов. Списков никаких не было, выбирали по «мордам», а считали по головам. После двухнедельного путешествия по Сибири и России, без бани, прокопченный на кострах, тощий пацан не смотрелся бравым «водилой» - покупателей на меня не нашлось. Вместе с остатками таких же «бравых» шоферов попал я в учебный Коломенский автобатальон.
Располагался батальон в Коломне в каком-то бывшем автохозяйстве. Под казарму пошел кирпичный склад или гараж, в котором были сооружены двухэтажные нары. Постельного белья и других принадлежностей не было. Спали одетыми, в бушлатах и ботинках, под голову клали пустой вещмешок и фляжку. Раздеваться было нельзя, да и с сонного могли все снять! Кормили сносно, занимались прямо в поле на берегу реки. Самыми привлекательными занятиями были занятия по изучению «сапуна» или «храповика» - так назывался сон на свежем воздухе. Но все-таки изучали и устройство, и вождение «виллиса». Ездили ночью без света по незнакомой дороге. Однажды перегоняли из Москвы автомобили ЗИС-5. В Москве колонна рассыпалась. Заблудился и я. Когда выехал на Таганскую площадь, бензин кончился… Заночевал. Утром привезли бензин. Двинулись дальше. По дороге подхватил «леваков», но до Коломны не довез - опять кончился бензин, но денег немного заработал.
Второй раз забрали нас ночью, повезли на какой-то склад автомобилей «студебеккеров», распределили по машинам, показали, где стартер, сколько скоростей, где вода и масло. Залез я в кабину - ни переда, ни задней части машины не видно! После «виллиса» он мне показался громадным. Подумал, что если попаду в ворота склада и выеду на улицу, - считай, повезло. Но все прошло благополучно, и уже под вечер я гонял эту громадину, как «виллис». Грузили мы часть, отправлявшуюся на фронт. С нами ездили представители этой части - работали целый день. Вечером пригнал я машину на железнодорожную станцию для погрузки на платформу. К нам подошел генерал. Сопровождающий ему доложил, что я не из их части. Генерал спросил, как я вожу машину. Сказал, что хорошо. Тогда генерал спросил меня, хочу ли я воевать. Я, конечно, ответил утвердительно. Он стал расхваливать свою гвардейскую артиллерийскую часть и велел своим подчиненным оформить меня к ним. Я не поехал в Коломенский батальон и остался ждать погрузки. Через некоторое время на «виллисе» приехал наш старшина - зануда, педант, любитель муштры. Я отказался с ним ехать, ссылаясь на команду генерала. Тогда он заявил: «Уедешь, напишу в твой военкомат, что ты дезертировал». Это меня сразило, т.к. я понимал, что он действительно может это сделать. Представил, как придут к матери и скажут, что у нее сын дезертир. За всю жизнь не отмоешься! Взял я из кабины бушлат и вещмешок с «добытой» сушеной рыбкой, хлопнул дверкой и сел в «виллис». Был страшно зол на старшину. Теперь, после стольких лет, у меня, конечно, нет злости. Я понял, что части, в которые я чуть не попал, шли на Курско-Орловское направление, и была большая вероятность там и остаться - погибнуть. Может, мне надо бы этого старшину благодарить всю жизнь…
В августе 1943 года нас, шоферов, направили в 1511 отдельный истребительный противотанковый артиллерийский полк (сокращенно 15-11 ИПТАП). Дислоцировался он на окраине Наро-Фоминска в деревянных бараках. Автомашины еще не были получены, имелись только штук двадцать противотанковых пушек. Расчеты укомплектовали. Около половины солдат были освобожденные из лагерей Колымы и Магадана, осужденные по бытовым статьям. Среди них находились и такие, которые отсидели не один раз, имели несколько фамилий и побегов. Пушки (орудия) назывались по паспорту ЗИС-5, как и автомобиль московского завода, может быть, для того, чтобы запутать противника. Противотанковая пушка имела калибр 57 мм, унитарное заряжание. Стреляли снарядами снарядами разных типов: осколочными, бронебойными, подкалиберными. Последние имели мягкую оболочку и внутри прочный стержень, который пробивал броню и шрапнелью (картонный стакан, наполненный металлическими шариками). Орудие имело оптический прицел и выбрасыватель гильз после выстрела. Оно было укомплектовано и передком, в котором размещались снаряды. Весило все это 2-3 тонны и прицеплялось к автомашине. До получения автомашин шоферов распределили по пяти батареям. Я попал во вторую. В батареях было по 4 орудия. Я входил в расчет второго орудия. Расчет состоял из командира орудия, наводчика, одного или двоих заряжающих, одного или двоих подносчиков снарядов и водителя автомашины. Боевые расчеты теперь всегда были вместе. Вместе ходили строем, ели, спали, на себе возили орудие за несколько километров на боевые учения, окапывались, маскировали, чистили. Это было хорошо, так как уже создавался единый боевой организм - орудийный расчет. В начале сентября полку выдали автомашины: «студебеккеры», «доджи 3/4», «виллисы». Мы пригнали их в полк, который к тому времени передислоцировали в какой-то лесной поселок вблизи Наро-Фоминска. Мне достался «додж». Кормили нас неважно, постоянно хотелось есть. После обеда я уходил в лес, собирал грибы, варил и без хлеба съедал. Этим хоть как-то утолял голод. Но рисковал - отсутствие в части более получаса рассматривалось как побег или дезертирство. А это каралось отправкой в штрафной батальон или сразу расстрелом. В последнюю ночь перед отправкой на фронт мы, несколько шоферов, проникли на картофельное поле, охраняемое автоматчиками, и накопали вещмешок картошки, которая послужила хорошей добавкой к питанию в дороге.
Погрузили нас в железнодорожный эшелон. Расчеты, обслуга и командование - в теплушки, орудия и машины - на платформы. Шоферы ехали в своих машинах. Водители «студебеккеров» - в кабинах, водители «доджей» - в кузовах своих машин. Кабины «доджей» не были приспособлены для отдыха водителей, спать в них было невозможно. Однако были и преимущества: над сиденьем водителя и кузовом был съемный брезент. Лобовое стекло укладывалось на капот двигателя машины. Когда снимался брезент, укладывалось стекло, автомашина превращалась в плоский ящик на колесах, высотой около метра, имеющий мощный двигатель и четыре ведущих колеса. Получался стальной малозаметный быстроходный тягач.
Итак, я спал в кузове. И однажды ночью, в самом начале пути, из моей кабины - из-под сиденья - украли весь инструмент. Увидел я это ранним утром и, не поднимая шума, сразу же утащил инструмент из соседней машины и положил уже так, что украсть его у меня никто не сумел.
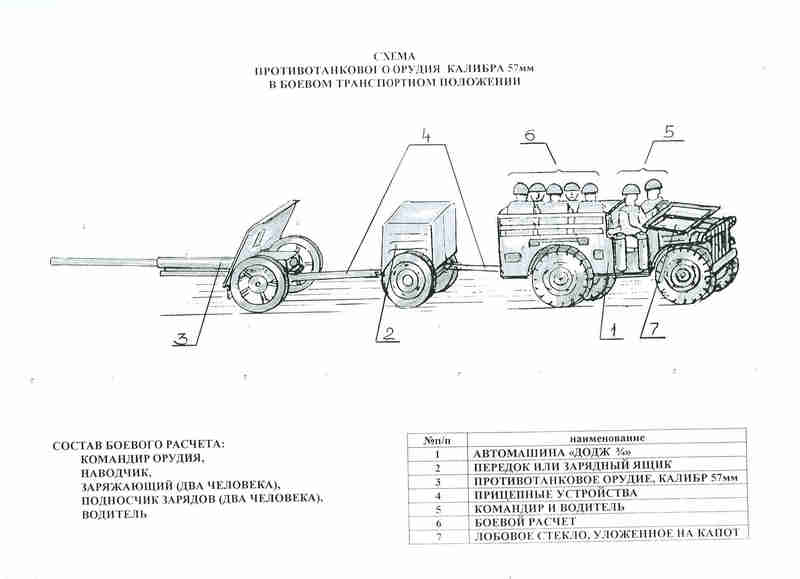
Транспортная схема противотанковой боевой единицы
Разгрузился полк на станции Конотоп. К тому времени наш полк передали 19-му танковому корпусу, которым командовал генерал Васильев. Корпус входил в состав 4-го Украинского фронта. Корпус имел 500-600 танков, 40 самоходок СУ-152; артполк из 122 мм орудий взаимодействовал с конным корпусом Кириченко. Своим ходом, в основном ночами, мы передвигались из-под Мелитополя в район р. Молочной. Однажды ночью остановились в посадке, установив орудия на огневой позиции; я пошел подыскать место, где закопать машину. Смотрю, в окопе сидят солдаты, я к ним обращаюсь - они не отвечают. Подошел ближе, снова начал разговор - не отвечают. Подошел вплотную, смотрю, а они мертвые. Стало жутко. Ночь, лес, вокруг никого нет и только два мертвеца, с которыми я разговариваю. Но это было только один раз - позже в аналогичной ситуации я уже не испытывал ничего подобного.

Виктор Володин в 1943 году
На этом марше было еще одно приключение, но уже совсем другого рода. После ночного передвижения наша батарея была поставлена близко от передовой, закопали орудия и машины. Двое ребят (освобожденных из лагеря по просьбе отправить на фронт, чтобы искупить свою вину кровью) - один наводчик третьего орудия по фамилии Дерновой, фамилию второго не помню, подошли к командиру батареи и сказали: «Комбат, ты думаешь, что мы за такую баланду будем воевать?» Он их спросил: «А что вам нужно?». Они отвечают: «Машину и одну ночь». Не знаю почему, но выбор пал на меня. Для страховки взяли еще одного водителя, пожилого, по фамилии Бандура. Вечером мы отправились в тыл, километров за 80-100, в село, в котором перед этим останавливались на отдых. Ехали без света, объезжали заставы . Приехали на место. Дерновой с напарником ушли. Через некоторое время приводят молодую корову (нетель). Корову оглушили, забросили в кузов и быстро поехали. Дерновой с напарником зарезали ее в кузове. Тем же манером, объезжая посты, к утру мы оказались снова на передовой. Я поставил машину и свалился замертво и уснул. К обеду меня разбудили есть суп с мясом. Машину уже помыли, следы замели. Вся батарея (30-35 человек) сыты и довольны. Риск загреметь в штрафбат был большой, но молодость и желание быть равным среди этой «братвы» туманили здравый смысл. Однако это было только начало «боевого пути».
На нашем участке фронта готовилось наступление. Наш истребительный противотанковый полк как мобильный и оснащенный орудиями, поражающими почти все модели танков немцев, постоянно перебрасывали на разные направления, вероятно, танкоопасные, а также, возможно, для маскировки и отвлечения сил противника от предполагаемого места основного удара.
Так, в одну из ночей полк менял позицию, как потом выяснилось, недалеко от переднего края. Полк двигался колонной (конечно, без света) по украинской степи. Можно сказать, и без дороги, т.к. вместо одной было много разных дорог без всяких знаков и указателей (в этом месте долго стояли войска обороны). Водить колонны командиры еще не научились, водители также еще не умели ездить компактно. Это привело к тому, что уже через несколько часов колонна рассыпалась и разъехалась по разным дорогам. Со мной получилось так. Передние автомашины остановились и стояли довольно долго. Весь расчет и политрук полка спали в кузове. Я, наверное, тоже задремал. В то время, пока мы дремали, передние машины уехали. Меня толкнул водитель машины, стоящей за мною, я поехал, но пыль и темнота помешали догнать уехавшие машины. А за мной едут еще семь автомашин, часть из них были с орудиями, часть - просто с грузом! Народ поголовно спал во всех машинах. Минут через 10-15 я понял, что не знаю, куда ехать. Остановился, стал спрашивать проезжавших всадников, далеко ли до передовой и не видели ли они машин нашей части. Машин они не видели, «а передовая далеко». Я тогда думал, что там окопы, колючая проволока и т.п. Стараясь догнать или найти своих, я придавил на газ вдоль посадки, но минут через 10-15, когда я вывернул из-за посадки, прямо передо мной застрочил немецкий пулемет. Трассирующие пули пошли веером над кабиной. Я на полном ходу крутанул машину назад, шедшие за мной машины тоже начали разворот. Пули ложились на дорогу рядом с машиной, летевшей по дороге с передком и пушкой на полном газу. Спасло нас, как я думаю, то, что еще не рассвело, немец спал, пулемет у него был не установлен на наземную цель, «додж» с брезентом в темноте можно было принять за танк. Нам повезло - все машины и люди остались целы. У других, которые, как мы, напоролись на немцев, были потери. Это были первые потери, а мы еще не вступили в бой. Этот случай научил нас ходить в колоннах. Водители стали ездить так, чтобы ствол орудия, едущего впереди, находился над радиатором, расчет висел на подножках машины. Если возникала необходимость, расчет моментально соскакивал на землю и на техническом «артиллерийском» языке объяснял, кто едет и как быстро нужно освободить дорогу.
Прошло несколько дней передвижения и началось наступление на реке Молочной в районе Мелитополя. Немецкая оборона была уже прорвана в нескольких местах, и в эти прорывы хлынула вся подготовленная армада танков 19-го корпуса, а за ними - конница Кириченко. Наш полк, как я теперь понимаю, был установлен на танкоопасном фланге. По нам немцы нанесли удар, чтобы отрезать наступающие войска. Сначала на нас налетели самолеты (25-30 штук, наверное, мессершмидтов). Наша пехота убежала за наши позиции на 3-5 км. Стояли в посадке, кругом поля. Первые бомбы приняли за листовки - так их было много, и они блестели на солнце. Стояли, разинув рты. Уразумели, что почем только тогда, когда они засвистели и завыли. После бомбежки самолеты начали нас утюжить из пулеметов. Орудия стояли в посадке, и для них успели выкопать аппарели. Автомашину я тоже успел закопать, но неглубоко, а сам лежал у переднего колеса с карабином и противотанковыми гранатами. При бомбежке на моей спине от разрывов поднималась шинель. Могу признаться - в эти моменты, кроме того, что я поминал немцев крепким словом, вспоминал только маму и Бога, прося защиты.
Бой развивался так.
Орудия (20 штук) и машины полка были рассредоточены в посадке на расстоянии полутора – двух километров, преграждая дорогу немецким танкам. Командир полка еще перед боем обошел батареи и сказал, что умирать нам в этой посадке, но не отступать, т.к. корпус ушел вперед. Огонь по танкам открывать с четырехсот метров. Самолеты улетели, немецкие танки пошли в атаку. Под их прикрытием шли автоматчики и постоянно стреляли по посадке разрывными пулями. Пули разрывались на деревьях, и было впечатление, что автоматчики стреляют уже рядом с тобой. Наши начали стрелять по танкам подкалиберными снарядами, а по автоматчикам - осколочными и картечью. Наверное, немцы еще не встречались с таким огнем - двадцать орудий бьют прицельно с частотой минимум 4-5 выстрелов в минуту.
Бой был скоротечный, не более получаса. Часть танков подбили, атака автоматчиков захлебнулась. Мне выстрелить не удалось. Вот тогда «считать мы стали раны, товарищей считать». Сколько потерь было в полку, сказать не могу, а в нашей батарее из самолета был ранен в ногу водитель автомашины первого орудия. По радиатору моей машины прошла автоматная очередь разрывными пулями, но они разорвались, едва прикоснувшись, поэтому радиатор не повредили, а подфарник разнесли. Пуля пробила первый мой трофей - канистру. Самолет спикировал на мою машину, но попал из пулемета между кузовом и зарядным ящиком, очередью перерезал водило (из стальной трубы диаметром 100-120 мм). Зарядный ящик отцепили и бросили - больше я его не видел. Через некоторое время зарядных ящиков в полку вообще не стало, а орудия стали цеплять прямо к машине.
Нападавшим немцам стало уже не до нас, они торопились убраться на запад, т.к. 500 танков корпуса вышли на оперативный простор, и, сбивая очаги сопротивления, быстро продвигались вперед. Конники Кириченко под прикрытием танков добивали рассыпавшиеся по степи разрозненные обозы и пехоту противника. К вечеру наступило затишье, удравшая пехота и подошедшие части пошли «вперед на запад».
За время боя вышли из строя и некоторые шоферы. В батарее «запасных» не было, и командиры начали искать таковых. Из проходящей пехоты вызвался один немолодой солдат. Мне поручили его проэкзаменовать и рассказать об устройстве «доджа ¾». Поговорив с ним, я понял, что он грамотный водитель с большим опытом, показал ему устройство и управление. Это был Иван Стрижак. Его орудие было первым, а мое - вторым. Теперь все время я ездил за ним. Водил машину он лучше меня. Иной раз я ругал его в душе, т.к. не мог за ним угнаться. Мы с ним подружились, меня он звал «хохленком» и говорил, что мне еще нужно ходить без штанов, в длинной рубашке и играть в песочек. В царскую армию забирали только «хлопцев», которые носили штаны. Поэтому родители не шили штанов пацанам, и те до 17-19 лет ходили в длинных холщевых рубахах.
До войны Иван жил на Украине, при отступлении (по-моему, попал в окружение), добрался до своего дома и жил до прихода наших войск. Затем его мобилизовали и отправили в пехоту - штрафную или полуштрафную роту. Их и наш командиры как-то договорились и, может быть, за бутылку его нам отдали. Мы с ним дружили до конца войны. Демобилизовался он раньше меня, из дома писал мне в Минусинск.
Продвижение наших войск продолжалось, и наш полк, а иногда и отдельные батареи, помимо танкоопасных направлений, использовались для поддержки отдельных пехотных частей. Поступали такие команды: «Поддержать огнем и колесами такой-то батальон». На деле в батальоне насчитывалось 40-60 человек, а то и меньше. Поэтому мы постоянно были в движении. Нас перебрасывали на десятки и сотни километров вдоль фронта.
Запомнился мне один интересный бой. Полк идет колонной по украинской степи, как всегда, с одной стороны дороги - посадка. Навстречу идет колонна немецких танков. На полном ходу наши машины веером разворачиваются вправо и влево, устанавливают орудия. Начинается бой с танками. Одно из орудий нашей батареи установили прямо на дороге. Один из подбитых танков продолжал стрелять. Разбил орудие. Расчет погиб. Свое орудие мы установили немного левее в поле, машину я отогнал за посадку, но снарядов в запарке разгрузили недостаточно. Подносчикам снарядов и мне пришлось таскать к орудию ящики со снарядами (70-75 кг) через дорогу, которую обстреливал танк, выжидая время, когда немецкие танкисты перезаряжают орудие. После таких пробежек со снарядами мне страшно захотелось есть. Я сел в машину, достал хлеб, отрезал кусок сала и стал с большим аппетитом есть, несмотря на непрекращающийся бой с танками. Через какое-то время я обратил внимание на то, что шоферы собрались вокруг моей машины и с удивлением на меня смотрят. Они подумали, что я тронулся умом. Я еле-еле их убедил, что просто сильно проголодался. Они еще долго с опаской и недоверием наблюдали за мной.
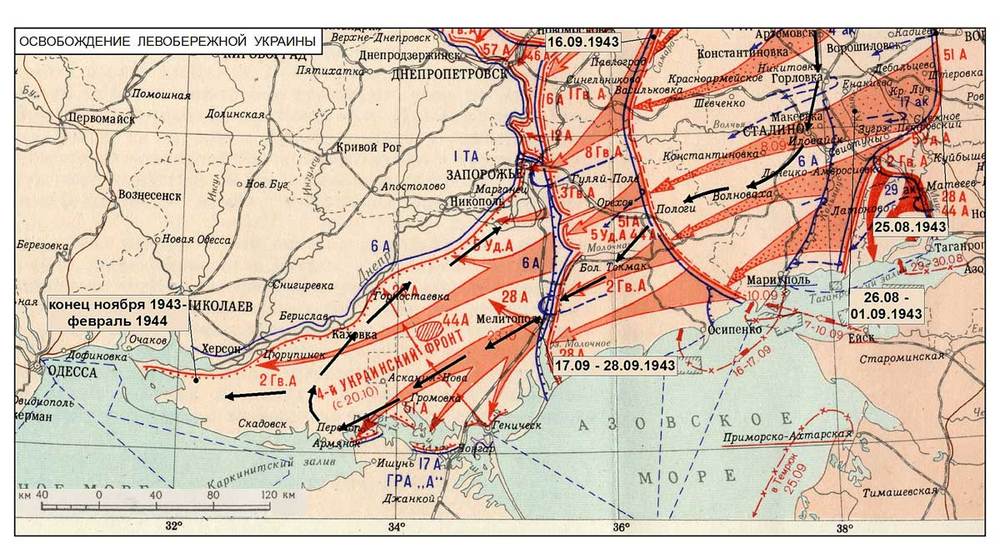
Турецкий вал
Танки мы не пропустили, потеряв одно орудие и половину расчета. Наступление происходило широким фронтом, часть войск пошла прямо на запад в направлении Никополя, другая часть пошла на юг, пытаясь с ходу ворваться в Крым. Наша батарея тоже направилась на юг. Передовые части танков и самоходных орудий прорвались за Турецкий вал, но попали в окружение вместе с командиром корпуса. Мы подъехали к Турецкому валу в момент окружения наших передовых отрядов. Поддерживали окружение немецкий бронепоезд и авиация. Наша авиация и пехота отстали примерно на неделю. Подошедшие орудия и машины укрылись в противотанковом рве, выкопанном, наверное, еще при обороне Крыма. Ров этот шириной метра в четыре, глубиной – в три, а длиной в несколько десятков километров тянулся через весь перешеек. В то время, когда я отошел к брошенным немецким автомашинам, налетели немецкие самолеты и начали бомбить. Я лег на спину и стал смотреть на самолеты, как они заходят и, подходя, сбрасывают бомбы. Мне показалось, что сброшенные бомбы летят прямо на меня, я вскочил и быстро побежал им навстречу. Пробежал метров 20-30 и упал. Расчет оказался правильным. Бомбы меня перелетели. Таким способом «набегать» на бомбы я пользовался потом несколько раз. В противотанковом рве дела обстояли куда хуже. Бомбы попадали в ров и на край рва. Были раненые, убитые, засыпанные. Убили нашего водителя Ивана Разгоняева. Наутро из окружения вывезли на самоходке раненого командира корпуса генерал-майора Васильева, и части вышли из окружения. Прорыв в Крым не получился.
Фронт стабилизировался, но наш полк время от времени перебрасывали на различные участки. Поэтому он был все время в движении. Одна такая операция мне хорошо запомнилась.
Насколько я сейчас понимаю, перед командованием полка была поставлена задача: выявить огневые точки противника в районе ворот Турецкого вала. Из батареи выделяют третье орудие, наводчиком которого был Дерновой (бывший заключенный, искупающий свою вину кровью). Ночью расчет вырыл аппарель для орудия и окопы для расчета на расстоянии 300-400 м напротив ворот Турецкого вала. Вывозить орудие на огневой рубеж приказали мне. Загрузили на мою машину 15 ящиков снарядов (75 штук), прицепили орудие, расчет сел или прицепился за машину, и мы ясным солнечным днем на полной скорости понеслись к Турецкому валу. С ходу развернулись, поставили орудие на подготовленное место, расчет сбросил снаряды, я отъехал на 100-200 м. Все это происходило в течение нескольких минут. К этому времени все уже были хорошо обстреляны – и никому ничего не надо было рассказывать. По нам не успели сделать ни одного выстрела. Дерновой оставил двух заряжающих. Остальным, вместе с командиром орудия, приказал спрятаться в окоп. Только после того как он начал стрелять, немцы опомнились, и началась настоящая неравная артиллерийская дуэль. Немцы кладут снаряды около орудия, но попасть в него не могут. Дерновой стреляет непрерывно, вокруг его орудия дым и пыль стоят столбом. Только по выстрелам нашего орудия мы знали, что оно еще цело и расчет живой. Продолжалось это не более получаса. Когда орудие перестало стрелять и все стихло, не ожидая, когда улягутся пыль и дым, я подогнал машину, в один момент расчет прицепил пушку, вскочил в кузов, и немец… только нас и видел! Один боец из расчета получил легкое ранение, остальные были целы, только краска на стволе орудия сгорела - так оно было раскалено!
Результата этой операции я не знаю. Удалось ли повредить закопанные танки и самоходки и засечь огневые точки? Не знаю… Вероятно, что-то получилось.
Вскоре с Турецкого вала нас сняли и перебросили на другой участок фронта в район Николаева. Там шла подготовка к форсированию Днепра. Эти бои хорошо описаны у писателя Виктора Астафьева. Девятнадцатый танковый корпус в этом не участвовал, и наш полк тоже. Однако некоторые признаки наводят на мысль, что нас использовали как отвлекающую военную группировку, имитирующую подготовку прорыва совсем на другом участке фронта. Иначе действия командования я не могу понять до сих пор.
Начиналось все, как при подготовке к наступлению. Вместе с корпусом мы совершили марш и рано утром приехали на передовую. Впереди меня вез первое орудие Ваня Стрижак. Вижу, он не успел остановиться, а расчет посыпался на землю. По ним стреляли из пулемета. Я быстрее проехал за первое орудие, увидел пустую аппарель, перескочил через бруствер и поставил орудие. Расчет мгновенно отцепил орудие и сбросил снаряды. Я, не мешкая, отъехал назад и упрятал машину в воронку от бомбы или снаряда. И, как в кино, стал смотреть на дальнейшие события. Подъезжали следующие орудия, их везли «студебеккеры» («доджи» к тому времени не уберегли), груженные снарядами. Цель для немцев - прекрасная! Первой машине перебивают переднюю ось, второй машине попадают прямо в кузов. Горят снаряды. Третья также подходит к первым двум. Расчеты стараются отцепить орудия и откатить их из этой кучи на руках и пытаются забрать ящики со снарядами из горящих машин. Один офицер заставляет водителей относить ящики со снарядами. Они несут ящик, и прямо в ящик попадает мина - их всех разносит на куски. Ребята только приехали из тыла, где заработали на «леваках» приличные деньги. Эти деньги находились в карманах брюк. При взрыве деньги разносит по полю. Офицер начинает их собирать. Моего друга, водителя Пишненко, ранило осколком в грудь навылет. Несколько машин сгорело. Орудия за этот день, по-моему, не сделали ни одного выстрела.
В это время подходят наши танки и, рассредоточившись по полю, останавливаются на рубеже атаки. Теперь немецкая артиллерия взялась за них. Немцы стреляют с умом. Три-четыре, редко пять снарядов на стоящий танк, и танкисты покидают горящий танк, несут раненых, вытаскивают убитых. Все это происходит на поле вокруг меня. В довершение этой трагедии немцы артиллерийским огнем стирают с лица земли стоящий неподалеку сарай, в который свозили и приносили раненых. Команды идти вперед так и не было. Почему, никто нам не объяснил.
Когда начало темнеть, появилась возможность подъехать к своим ребятам. Настелили травы в кузов, уложили тяжелораненых, на скамейки усадили тех, кто мог сидеть, - всего человек пятнадцать. Сел и офицер, который знал, где находится ближайший госпиталь, и мы поехали. Как я за эту поездку не поседел - не знаю. Ваня Пишненко сидел за мной и при каждом толчке просил о помощи. Другие ему вторили. А дорога прифронтовая, вся разбита танками. Едем без света. Так проехали километров 10-15. Кое-кто уже перестал стонать - умер… Ванюшка еще стонал. Заезжаем в деревню. Темно. Играет гармошка. Солдаты гуляют и тискают девок, те визжат и смеются. Это уже глубокий тыл и другая жизнь.
Ваня Пишненко умер на столе в госпитале. Мы еще не уехали, но забрать его с собой не могли, хоронил госпиталь. После этой ночи я приходил в себя несколько суток. Ничего не мог есть. Ребята говорили, что лицо у меня почернело. В кузове машины было на вершок крови, в крови были и колеса машины.
Однако временами в нашей фронтовой солдатской жизни происходили и трагикомические ситуации. Как всегда - ночью - поднимают полк для передислокации на другой участок фронта. Начинаются сборы. Расчет уже оброс хозяйством - доски на дрова и перекрытия окопов, куски брезента, котелки, ведра, продукты и прочая утварь. Все тащат на машину, которая тоже обрастает барахлом. Водитель в конце концов выходит из себя и начинает все сбрасывать. А еще нужно грузить снаряды и цеплять орудие. Сбор идет ночью, в полной темноте, скрытно, передовая рядом, и шуметь нельзя. В темноте разливают бензин из бочек в ведра и из ведер в баки. Баки литров под сто. Все это происходит медленно. Терпение у кого-то из командиров кончается, и он зажигает спичку, чтобы посмотреть, сколько горючего в баке. Бак - на удивление! - не взрывается (потому лишь, что был почти полный), начинает гореть. Солдат несет бензин в ведре прямо к машине с горящим баком - бензин в ведре загорается. Солдат ставит его на землю и отходит. Третий «умник» подходит и ногой переворачивает ведро. Бензин разливается, мгновенно вспыхивает, охватывая большую площадь. Загорается сухая трава. Всем становится ясно, что по этому месту сейчас немцы нанесут хороший удар. Горловину горящего бака просто затыкают тряпкой. Мгновенно все машины оказываются заправленными, загруженными и даже полным ходом убирающимися подальше от пожарища. Как будто нас здесь и не было! Это происшествие закончилось благополучно. Полк без потерь перебазировался на новое место.
Поучительный случай произошел со мной. Полк перебазировался на очередное танкоопасное направление. Меня забрали на выполнение какого-то задания (с кем-то куда-то ездил). Приезжаю к обеду. Командир орудия мне говорит, что за провинность старшина Кутуков лишил всех шоферов фронтовых 100 грамм. За всех шоферов я ничего не мог сказать, а себя считал несправедливо наказанным - меня на этот момент и в полку-то не было. До окопа, в котором находился старшина, было недалеко. И я отправился доказывать свою правоту. Старшина сказал, что не хотел меня наказывать, и дал мне полную, но распечатанную бутылку водки. Я взял бутылку, большим пальцем закрыл горлышко и побежал по дороге к орудию. Дорога проселочная, бежал я по ближней к противнику колее. Была небольшая артиллерийская перестрелка. Когда я уже подбегал к орудию и видел обедающий у орудия расчет, то вдруг услышал свист летящего снаряда. Упал мгновенно головой в сторону противника, не выпуская большого пальца из горлышка и прижимая бутылку к груди. Снаряд разорвался у меня в ногах, только в другой колее дороги. Меня, конечно, оглушило и засыпало землей. Ребята все это видели, и решили, что я убит или ранен. Очухавшись от взрыва, я вскочил и благополучно добежал до орудия, не выпуская из рук бутылку и не снимая большого пальца с горлышка. Все были удивлены тем, что на мне не было ни единой царапины. Только тогда до меня дошло, что из-за бутылки водки меня могло убить или покалечить. Пить эту водку я не смог, отдал ребятам и попросил выпить за меня. Что они с удовольствием и исполнили. А повезло мне потому, что основная масса осколков снаряда при разрыве летит вперед...
Кстати, расскажу еще о добывании водки сверх положенных солдату «наркомовских» 100 граммов.
Примерно в то же время нашу батарею перебрасывают на южную часть левобережной Украины поддерживать наступление небольшого пехотного подразделения, как тогла любили отдавать команды - «Поддержать огнем и колесами!». Это означало, что продвигаться вместе с пехотой, а то и впереди пехоты, подавляя огнем узлы сопротивления.
Продвинулись мы совсем немного, километров на 5-8. Видно, немцы не ожидали от нас такой прыти. Расставили орудия на огневые позиции недалеко от невзрачного кирпичного сарайчика. Даже постреляли немного по немецким танкам. Пехота залегла рядом с нами. Все спокойно курят. Вдруг среди орудийных расчетов начинается суета, которой верховодит Дерновой. Выясняется, что он пронюхал о трофейной водке, хранящейся в сарае. Но солдаты из СМЕРШа охраняют сарай и взять водку никому не разрешают. Такого «разбоя» честное воровское сердце выносить не может. Организуется операция по изъятию части водки.
Как самого молодого и уже проверенного выбирают меня с «доджем». В кузов усаживаются четыре человека. Дерновой размещается около меня и командует всей операцией. Сначала раздаются крики: «Танки! Танки!». Начинается беспорядочная стрельба из автоматов и орудий. Из орудий стреляют осколочными на близкое расстояние. Получается имитация обстрела нас немцами, т.к. снаряды рвутся близко. Раздается команда: «Танки справа! Сошники влево!» (поворачивают орудие в сторону сарайчика). «Подколиберным! Три снаряда! Огонь!». Подколиберный снаряд пробивает броню любых танков. О стене сарайчика можно не заботиться. Орудийный расчет точно кладет по стене сарайчика на уровне кузова «доджа» три подкалиберных. В стене образуется большая пробоина. Пушки продолжают стрелять в «белый свет». По команде Дернового быстро подъезжаю и подаю задом машину вплотную к пролому в стене. Два человека залезают в склад и начинают подавать ящики с водкой двум принимающим. За три-пять минут подали больше десяти ящиков, покинули сарай, быстро отъехали и скрылись с «поля боя».
Стрельба затихла, т.к. «танковая атака немцев была отбита». Водку хранить доверили мне, знали, не выпью и лишнего не дам. Выдавал перед обедом по бутылке на троих. Последствий и оргвыводов никаких не последовало. Вся батарея была довольна и молчали о проделке.
В постоянных передвижениях с мелкими стычками закончилась осень 43 года. Украинские дороги обледенели. Машины с грузом и орудиями могли передвигаться только тогда, когда на все колеса надеты цепи. Спать в кузове «доджа» стало невозможно. Но как только стал спать в окопах, появились вши в огромном количестве. Однажды, волей случая, я «приобрел» хорошие шерстяные носки. Не мог нарадоваться - какие у меня стали теплые ноги! Однако ноги быстро стали невыносимо чесаться. Разулся, посмотрел – в каждой петельке шерсти сидела жирная вошь. Не раздумывая, бросил носки вместе с содержимым в костер.
В деревнях мы стояли редко. Больших наступательных операций не происходило. Привыкли жить в окопах, но нужно было как-то обогреваться. Для этого в стенке окопа делали печурку. Топили ветками, корнями деревьев, воровали ящики от снарядов и сами снаряды - конечно, не в своей части. Из снарядов брали порох или тол. Для полковой кухни ездили с передовой за дровами, для чего растаскивали бревна с поврежденных, брошенных и даже с жилых домов, вырубали лес, фруктовые сады и посадки. Кормить солдат и офицеров нужно было каждый день и каждый день надо было решать, где брать дрова. Было время, когда я ежедневно ездил в г. Армянск, стоящий на нейтральной земле, возил туда ребят разбирать дома, сараи, заборы на дрова. Немцы по нам стреляли, но мы на большой скорости влетали в город, прятались за домами, путая следы. Нагрузившись дровами, тем же манером уходили из-под обстрела.
В районе Левобережной Украины, в морозный туманный день, было предпринято внезапное наступление. Танки и автомашины покрасили в белый цвет (побелили). Без шума вывели на рубеж атаки и встали. Без артподготовки танки пошли в атаку при поддержке штурмовиков ИЛ-2. Продвинулись в первый день немного - на 10-15 км. Наверное, сказался фактор внезапности. В зоне наступления находилась «балка Шевченко» (так ее называли при оперативных разговорах). Фактически это был огромный овраг посреди степи глубиной до 10-15 метров, шириной в верхней части метров 50, а длиной, наверное, больше 5-7 км. Бой я не видел, видел только его результат. Как я понимаю и как рассказывали очевидцы, 19-й танковый корпус, хотя и был потрепанным, имел не меньше 200-300 танков, которые и бросили на этот узкий участок. Танки выгнали немецкую пехоту из окопов в степь, штурмовики загнали ее в балку, танки прошли вдоль балки. И в результате на протяжении не менее 5 км на склонах балки сверху донизу - плотным слоем лежали трупы немецких солдат. На дне балки трупы были перемолочены гусеницами и колесами. Немцам незадолго до боя выдали чистое теплое белье и верхние утепленные маскировочные брюки и куртки. Наши солдаты поснимали с трупов всю одежду. Трупы замерзли и вид у них был страшный.
Наша батарея (оставшиеся три орудия) подошла только к вечеру и заняла рубеж в дальнем конце балки. Орудия установили на правом склоне балки, а на левом были немецкие блиндажи. Машины загнали в балку впереди орудий, спать пристроились в немецких блиндажах. Мне с двумя солдатами и офицером выпала задача достать дров. Мы поехали в темноте, не зная местности. Колесили несколько часов, пока не набрели на колхозный сад, в котором и нарубили яблонь. Приехали ранним утром и узнали, что ночью был бой. Развивался он приблизительно так.
Вечером впереди наших орудий (по левому склону балки) прошли наши танки, пехоты же нашей перед орудиями не было вообще - куда она делась, неизвестно. Среди ночи на левый склон балки подошли какие-то танки, к утру подошла пехота. Оказалось, что танки - примерно 15 штук - немецкие, пехота - это немецкие автоматчики. Встали напротив наших орудий. Машины успели вывезти из балки, из немецких блиндажей расчеты, обслуга и командиры перебежали за орудия. Немецкие автоматчики при огневой поддержке танков начали атаковать наши оставшиеся три орудия. Бой, конечно, был неравный, но с позиций не отступили. Часть танков подбили, от автоматчиков отбились. В батарее было около 60 человек. Осталось 12. Командир батареи погиб. Остался легко раненный старшина Кутуков, отличился, как рассказывали, Дерновой. В этой неразберихе его орудие начало стрелять первым и, естественно, оно вызвало огонь танков на себя и было разбито первым. Часть расчета погибла. Дерновой подбежал к другому орудию, у которого погиб наводчик, и со словами «Не смерть…!» начал стрелять. В это время подключилось второе орудие, которое возил я. Танки не ушли, и им удалось подбить орудие, из которого стрелял Дерновой. Часть расчета погибла, но Дерновой остался жив. Он опять сказал: «Не смерть…!», взял автомат и вместе с оставшимися в живых отбил атаку автоматчиков. Танки и автоматчики отошли. Погиб он по глупости - пошел взять пистолет у убитого офицера. Из автоматической винтовки получил пять пуль в грудь. Закрывшись телом убитого, пролежал несколько часов. Но к вечеру умер. Старшина Кутуков принес оставшимся двенадцати продукты и ведро водки. Построил нас и заплакал. Его увезли в госпиталь со всеми ранеными, больше мы его не видели.
Через несколько дней мне пришлось вывозить оставшееся от всей батареи орудие. Тоже с приключениями. Было раннее зимнее утро, низкий плотный туман, кругом снег. Шуметь нельзя. Где находится орудие и передовая - не знаю. Поехал к месту, где оставлял пушку. Вылез из машины, шинель нараспашку, оружия не взял. Хотел обойти все пешком и осмотреться. В этот момент меня сильно ударило в правую ягодицу. Подумал, что ранило. Больно, но кровь не идет. Огляделся. На снегу, прочертив след, лежит немецкая пуля. Я ее поднял и долго потом носил в кармане. Прошел еще немного и понял, что потерял ориентиры. Туман плотный, ничего не видно и за десять метров. Стало жутко - подойдет немец, возьмет за воротник и отведет в плен. Хорошо, что я не заглушил машину. Присел, прислушался - и услышал шум мотора. Вышел на машину. Сразу взял карабин. Уж потом в этом тумане нашел орудие и вывез его вместе с оставшимися в живых ребятами.
Начиная от поездки за дровами, мне не удавалось поспать, т.к. в радиаторы машины была залита вода и каждые 20-30 минут мы должны были их прогревать. Стояли мы в этой же балке. По ночам мне приходилось по ней возить в штаб корпуса нашего начальника штаба майора Лебедева. Замерзшие трупы никто не убирал. А стояли морозы… Нервы даже у майора не выдерживали, когда под колесами трещали кости. Мне было все равно - я хотел спать. Наконец привезли антифриз. Стало легче, хотя спали мы в кабинах, а у «доджа» кабины практически не было. И при морозе в 15-20 градусов - какой сон! Выспался я, когда потеплело. Привез майора в штаб, поставил машину на солнышко, положил голову на руль и заснул блаженным сном. Когда майор пришел и попытался меня разбудить, я послал его далеко-далеко на сочном шоферском лексиконе и не проснулся. Он даже не обиделся, лишь сказал: «Спи… Спи… Только машину не заморозь».
Орудие осталось за мной, но когда транспортировка не требовалась, меня все чаще вызывали возить руководство штаба полка, т.к. много машин уже было повреждено или было не на ходу. За машиной я следил и берег ее. Бывали дни, когда я ее закапывал по три раза. За всю войну было только два случая, когда я останавливался в дороге по моей вине. Один раз застрял в болоте за Сивашем (но выбрался сам - за два-три часа) и под Тулой на формировке, о чем расскажу позже. Может быть, этим и объяснялось то, что командование полка выбирало меня для различных сложных и рискованных поездок. Ездить приходилось и днем, и ночью до самого конца войны. Было интересно, много видел, многое узнал. Но редко обо мне заботились временные пассажиры. Продукты питания на меня получала батарея, а я сутками мотался неизвестно где. Нет человека - нет вопроса. Часто по несколько суток не ел горячего. Но в конце концов научился заботиться о себе сам. В конце зимы 1943-44 годов на 4-м Украинском фронте больших наступательных операций не производилось, но бои местного значения, конечно, были. И нас перебрасывали в это время в танкоопасные места или в места контрударов по немцам.
Где это было, я не могу припомнить. Однако картина, о которой хочу рассказать, перед глазами и в душе осталась у меня навсегда. Дело было так.
Мы шли колонной в составе передовых наступающих частей. Танки, самоходки, автомашины двигались плотно в несколько рядов. Украинская бескрайняя степь. Снег выпал и растаял, настала небольшая оттепель. Дороги как таковой нет. Есть только грязная широкая полоса земли, размятая колесами и гусеницами до мерзлоты. Вся армада войск двигается по этой полосе. Еду и я, как все. Вдруг вижу, что на дороге местами лежат наши (судя по шинелям) солдаты, раскатанные в огромные блины. Никто не останавливается, никто не объезжает. А убиты эти солдаты были в начале боя и шли наверняка первыми. За что такое безразличие и жестокость наших «отцов командиров»! Они не дали команды убрать трупы или объехать, могли хотя бы не разрешить идти войску по трупам своих…
Ранней весной 1944 года наш полк перебрасывали с правого фланга 4-го Украинского фронта на левый, опять к Перекопу и Сивашу. Только сошел снег, дороги раскисли, танки их размяли так, что на машинах ездить стало невозможно. Часть погрузили на платформы и в вагоны, оставшиеся пошли своим ходом. В эту группу попал и я. Вез людей, снаряды, орудие. Дорогу описывать неинтересно – сплошная грязь и выбоины. «Додж» с цепями на всех четырех колесах еле выгребался. Шел дождь со снегом. Все эти прелести были на мне – машина-то рассчитывалась на условия Африки! Без остановок я ехал около трех суток. Наши машины растянулись на много километров. До места я доехал одним из первых. Последние приезжали через 10-15 дней. Остановились в деревне. Вся одежда - вплоть до нижнего белья! - была мокрая и частично замерзшая. Попав в тепло, я упал замертво и заснул. Через короткое время меня будят и говорят, что мне надо ехать на станцию (это за 30 км). Я, конечно, всех послал и заснул снова. Через некоторое время снова пришли будить. Я снова послал далеко-далеко и сказал, что у меня нет горючего. Они слово в слово все передали заместителю командира полка по строевой, который был назначен командиром нашей группы. Через некоторое время они приехали, привезли горючее и повторили команду приехать к командиру, а также его слова: «Если откажется - привезти силой». Но я опять сказал, что думаю обо всех, и в том числе и об отдающих такую команду. Машину заправили, подъехал к домику, где квартировал командир. Было уже темно, нас было только двое. Вылез из машины и встал около крыла. Командир начал кричать, что расстреляет меня. Я слушал и смотрел на него, думая, что если он потянется к пистолету, то сразу брошусь на него и задавлю. Но он этого не сделал. Приказал съездить на железнодорожную станцию и привезти людей и груз. После этого случая он до конца войны охотился за мной, стараясь посадить на гауптвахту.
Весна шла своим тысячелетним путем. Теплело. Дороги высыхали. Полк занял позицию у Сиваша. Я несколько раз возил офицеров полка на рекогносцировку через Сиваш по понтонному мосту. Закон на переправе был суров: остановившуюся на мосту машину вместе с грузом сбрасывали в Сиваш. Наш полк готовился к наступлению. Ремонтировали автомашины, я тоже ремонтировал свой «додж». Тылы стояли в селе Новоалексеевка. Был уже конец марта. После ремонта вечером приехал на батарею. Старшина дал мне бутылку водки и холодную кашу. Я съел кашу, выпил водку, лег в ямку, выкопанную для хранения снарядов, укрылся шинелью и заснул.
Проснулся и не могу подняться - меня занесло снегом почти на метр. Метет такая снежная пурга, что не видно, как говорят, белого света. Первая моя забота - сохранить машину. И я закрыл мотор шинелью, умудрился завести, но вода закипела. Тогда укрыл двигатель и спустил воду из радиатора и блока. Старшина пустил меня в свой окопчик - стало нас там трое - я, старшина и девушка санинструктор.Пролежали мы в этом окопчике, наверное, больше суток, пока не обвалилась крыша окопа, сделанная из плащ палатки. Старшина и санинструктор ушли, а я не мог покинуть машину - пролежал еще довольно долго. Несколько раз пытался выйти, но, видя, что пурга еще не прекратилась, закапывался снова. На мне лежала плащ палатка, а я лежал на дне окопа. Снег подо мной растаял, и я лежал в луже. Откопавшись в очередной раз, встал в окопе и увидел, что снега было выше головы - сам уже вылезти не мог. В это время командир батареи увидел меня и, подав руку, вытащил из окопа. Он с одним из водителей сидел в кабине «студебеккера», жгли в солдатском котелке бензин и этим спасались. В очередной раз обходя батарею, увидел меня. Пурга продолжалась с прежней силой. Комбат показал мне направление и сказал, что там деревня и приказал идти туда, т.к. я был весь мокрый, а места в кабине не было. Сам он был в саже, черный, как негр.
Я побрел в деревню, километров за 4-5, но и там не оказалось места, где можно было погреться. В хатах хозяева сидели на печках и кроватях, а всю остальную площадь - от самой входной двери - занимали солдаты, стоящие плотно друг к другу. Постоял я в такой хате несколько часов, немного отогрелся, но все еще был мокрым. Пошел по деревне искать другое убежище. Увидел, что на сарае солдаты жгут костер, доски для которого берут с другого края сарая. Забрался туда, меня приняли при условии, что буду поддерживать костер, а они будут спать. Я согласился. У костра было тепло, я смог обсушиться до нижнего белья и портянок. К утру пурга прекратилась, и я благополучно добрался до батареи и своей машины. Взялся за машину, расчет нагрел воды, машина завелась, повреждений не было. Старшина накормил солдат, забрал меня, и мы поехали в Новоалексеевку за продуктами. Ребята-ремонтники, увидев меня, очень удивились - они уже, оказывается, выпили за упокой моей души, решили, что я замерз в пургу.
Наконец, подготовка операции по освобождению Крыма была закончена. Наш полк, как и конный корпус Кириченко, был передан 19-му танковому корпусу. Передовую прорвали стоящие в обороне части. Танковый корпус входил в прорыв вместе с конным корпусом Кириченко - шли вперед, не обращая внимания на остающихся в тылу немцев. Задача полка складывалась по обстановке - закрывать танкоопасные направления и подавлять узлы сопротивления.
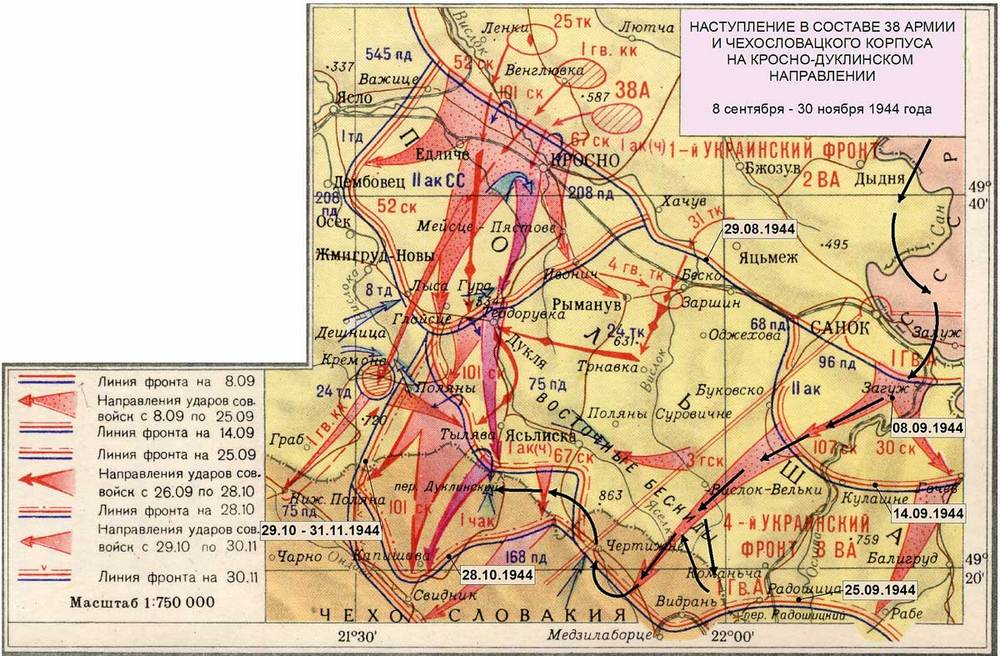
Через Сиваш перешли заблаговременно, в прорыв вошли еще ночью, в Джанкое были в пять утра. Паровозы стояли на парах с прицепными составами. К вечеру были в Симферополе. Немцы и румыны убегали в нижнем белье – никто не ожидал такого напора. В степи за Джанкоем на расстоянии 10-15 км, на ширине видимости, вдоль дороги все было усеяно повозками, машинами, трупами немцев и румын - это был результат работы танков и конницы. Полку оставалось подавление отдельных оставшихся огневых точек и очагов сопротивления за Джанкоем и на окраине Симферополя. За Симферополем и Бахчисараем полк разделился по трем или даже четырем направлениям. Наша батарея направилась на Севастополь в район бухты Северной, часть полка пошла по старой Алуштинской дороге, на Байдарские ворота и Ялту. На Севастопольском направлении руководство потеряло связь с батареями. Меня послали - одного! - попытаться найти и установить связь с ними. Конечно, это было глупо, но приказ есть приказ.
Полдня без карты, без знания местности и расположения войск противника я мотался в районе бухты, по каким-то песчаным горкам. Ехал до тех пор, пока по машине не начинали стрелять. Это заставляло нырять в кусты. С высоты горок я видел бухту, а вот Севастополь так и не увидел. Бросил я это занятие после того, как подошли «катюши» и через меня полетели снаряды. Они-то уехали сразу, и я не стал дожидаться мощного артналета немцев по этому месту. Приехал в часть и тут же получил другое задание. Одно из орудий заехало в немецкие окопы, «студебеккер», который вез орудие, сумел уехать, а расчет и орудие остались в немецких окопах. Разведчики не сумели к нему пробраться. До орудия я, конечно, не доехал. Попробовал и подойти, и подползти - ничего не получилось. Время шло к вечеру. Я решил, что можно попробовать подобраться ближе только после захода солнца, с наступлением темноты. Так и сделал.
Тихонько, без света, подъехал, развернулся, расчет зацепил орудие, погрузили раненого, все встали или зацепились за машину. Только когда тронулся и добавил газу, немцы забеспокоились - пустили ракеты, все осветилось, начали стрелять. Однако было уже поздно. Мы благополучно выскочили из зоны обстрела. На рассвете отправляют меня (опять одного) в направлении Байдарских ворот, куда ушла часть полка. Еду я преспокойно, один-одинешенек, любуюсь крымскими красотами, все зеленеет. Машины встречаются редко. Солнышко светит ласково, я никуда не спешу. Вдруг на одном из поворотов прямо из кювета поднимаются два немца с поднятыми вверх руками. От неожиданности они показались мне здоровенными. Я не испугался, но быстро сообразил, что брать мне их нельзя - могут убить и забрать машину. Не останавливаясь, я им показал назад, давая понять, чтобы они сдавались едущим за мной машинам: расстреливать безоружных я не смог. Так я не взял немцев в плен - теперь и похвастаться нечем.
Своих я нашел и рассказал, где наш полк. Через некоторое время они закончили с немецким заслоном на дороге и двинулись к Севастополю. На обратном пути повстречал наших, которые пошли по старой Алуштинской дороге. Они с большим трудом развернулись на этой узкой горной дороге, т.к. Алушту взяла Приморская армия, пришедшая из Керчи. Здесь у наших орлов я увидел удивительное приспособление: бочку с вином, установленную на лафете орудия. В нее вставлен шланг - желающие могут в любое время приложиться к вину.
Намотавшись вдоволь по Крыму, я наконец добрался до штаба нашего полка, где уже никому не был нужен. Севастополь сходу взять не удалось. Наступление прекратилось. Офицерский состав праздновал победу и охотился за женским составом. Я не принимал участия в этой охоте по той причине, что не спал и не мылся уже несколько суток, да и не надеялся на успех. Спокойно устроил себе хорошее ложе в кузове машины, упал и заснул блаженным сном. Утром проснулся, согрел воды, начал бриться, мыться, приводить себя и "доджа" в порядок. Не сразу обратил внимание, что молодые девчата из обслуги прогуливаются неподалеку и, как доходят до меня, фыркают и смеются. Вот тут я вспомнил, что, спасаясь от офицеров, одна из них спряталась у меня в кузове. Ясно вспомнил, как она, холодная, залезла ко мне под плащ палатку, я положил ее голову себе на руку, поцеловал и мгновенно уснул. Кем она была, когда ушла? - ничего не знаю. Все проспал. Но она-то о своем «приключении» наверняка рассказала подружкам. Вот они и потешались надо мной!
Брать Севастополь доверили Приморской армии, а войска 4-го Украинского фронта передислоцировали в район Балаклавы, Сапун-Горы и мыса Херсонес. Первый штурм не дал результатов. Войска только приблизились и уплотнились. Теперь мы стояли в низине, у дорог на Балаклаву и Сапун-гору. Не проходило и дня, чтобы я не ездил по разным делам. Машина стояла в полутора километрах от подножия Сапун-горы. Вся низина с горы обстреливалась - вначале даже снайперами. Попал и я в такую переделку. Однажды утром, сняв гимнастерку, в нижней белой рубахе, отошел от капонира, в котором стояла машина, чтобы помыться в маленьком озерце или просто луже в бомбовой воронке. Вдруг защелкали вокруг пули. Забыл о чистой рубашке, ползком убрался в укрытие. Наверное, фриц подумал, что я офицер. Больше я не ходил умываться в белой рубашке - хватило одного урока.
Наверное, пришла пора признаться в двух поступках, о которых не хотелось бы вспоминать. Но война есть война. Во время боев зимой 1943 года я ходил в резиновых сапогах, которые в конце концов окончательно развалились, и мне пришлось снять с убитого пехотинца армейские американские ботинки. Ботинки были красивые, но сделаны непрочно. А второй раз во время первого штурма Севастополя мне пришлось снять с убитого офицера сапоги, в которых я проходил до конца войны и приехал домой. Немецких сапог я перемерил много, но они мне не подходили из-за моего большого подъема.
В начале мая 1944 года начался второй штурм Сапун горы и Севастополя. Хочется написать о том, что видел, что врезалось в память или произвело сильное впечатление.
Артподготовка была такой силы, что дым и пыль от разрывов доходили до нас, располагающихся метрах в восьмистах в тылу. На штурм Сапун горы через наши позиции прошло больше десятка цепей пехоты. Штурмовая авиация (ИЛ-2) непрерывно обрабатывала передний край обороны немцев, которые вели по ним эффективный огонь. Многие из возвращающихся ИЛов имели пробоины в крыльях, хорошо видимые с земли. Когда пехота поднялась на штурм, немцы ответили плотным, ружейным, артиллерийским и минометным огнем, закрыв весь передний край разрывами.
Мы с машиной были в подчинении начальника штаба полка майора Лебедева. Он в это время замещал раненого командира части. С началом штурма все двинулись на Сапун гору. Поехали и мы с ним туда же. Едем еще по низине, артиллерия и минометы постреливают. Подъезжаем к заболоченному месту. Майор вынимает пистолет и говорит: «Застрянешь - застрелю!». А я вижу, что не проехать, - останавливаюсь. Он не выдерживает, соскакивает с машины и идет пешком. Я сдаю назад, объезжаю заболоченное место, догоняю его и останавливаюсь. Он молча садится, и мы едем на Сапун-Гору. Забрались почти на вершину, но там идет бой. Он оставил меня у машины, а сам пошел к орудиям. Место, где я поставил машину, ровненькое, не изрытое воронками, зелененькое - травка растет. Но меня оно почему-то не устраивало – чувствую, что не хочу стоять здесь. Сел в машину, завел, начал включать скорость и поднял глаза - на меня пикируют два «мессершмидта». И вижу оторвавшиеся от них бомбы. Включить скорость, дать газу, залететь в какую-то воронку, вывалиться из машины - много времени не потребовалось. Упали четыре бомбы (по 250 кг) на площадку, где я только что стоял. Вся земля встала дыбом.
Выкопал выезд из воронки, пошел встречать майора. А он пришел на то место, где оставил меня и машину. Увидел меня, удивился: «Ты живой?». «Живой», - говорю. «А машина?» - «Поехали», - говорю. Поехали дальше. В это время вперед уже пошли самоходки. Мы подъехали к нашим орудиям, зацепили одно из них и поехал по плато уже на горе. Происходит какая-то заминка в движении, откуда-то стреляют. Получаем команду - установить орудие на небольшой высотке в километре от дороги. Двинулись туда по целине - сильно не разгонишься. Расчет (уже очень хорошо обстрелянный!) рассыпался и идет, а местами - бежит, следом за машиной. Командир орудия в машине. Попадаем под пулеметную очередь. Командир орудия соскакивает и получает ранение в ногу. Расчет отцепляет пушку, разворачивает и бьет по пулемету. Немцы удирают. Орудие остается на огневой, я с раненым спускаюсь к дороге. Теперь мы с майором едем дальше по плато, видим сверху Черное море и корабли на нем. Вышли мы к мысу Херсонес. Орудия стреляют по кораблям. Севастополь уже взят. На мысе Херсонес скопилось большое количество немецких войск - танки, автомашины, пехота. Сопротивление ожесточенное. Подходят новые орудия, танки, пехота. Начинают окапываться. Поздним вечером меня посылают зачем-то в тыл. Выезжаю на плато. Не видно ни зги. Свет зажигать нельзя, ориентиров нет. Летают румынские «кукурузники» и бомбят. Останавливаю машину, залезаю под моторную часть и засыпаю до рассвета. С первыми лучами солнца просыпаюсь и еду в тыл. Ехать на машине я уже не могу - сказалось лежание в снегу под Сивашем. Тело все в нарывах - фурункулах. Самый большой – под мышкой правой руки, немного поменьше - на большом пальце левой руки. Рулить и переключать скорости невозможно, хотя до этого я умудрялся как-то еще рулить, но здесь сдался окончательно.
Утром, как рассказывали ребята,скопившиеся на мысе немцы пошли на прорыв, наша пехота отступила за орудия. Орудия стреляли осколочными, но немцы шли и были уже близко. Тогда начали бить шрапнелью. Было жутко - шрапнель выкашивала рядами. От немецких шинелей летели клочья. Наступил перелом. На этом участке немцы выбросили белые флаги и начали сдаваться. Солдаты, разъяренные боем, кричали: «Пленных не брать!», продолжали стрелять и убивать сдающихся. Офицеры (наверное, из заградотрядов) пытались остановить это повальное убийство. Начали стрелять вверх и грозить расстрелом. Строили немцев в колонны и отправляли в тыл.
Управляя больными руками и здоровыми ногами я умудрился как-то спуститься с Сапун-Горы в расположение наших тылов и передать поручение. Залез в кузов и стал наблюдать за происходящим.
И вот, что я видел воочию.
Мы стояли в двух-трех километрах от Херсонеса. Подходили колонны немцев, солдаты и офицеры врывались в колонны и били чем попало. Стреляли редко. Убивали руками, железными прутьями, всем, что попадало под руку. Первые колонны были почти полностью убиты. Не забуду, как медсестра сидела на корточках и методично разбивала железкой голову лежащему пленному с татарскими чертами лица. Никто не остановил и не осудил ее.
Через несколько часов все постепенно успокоились. Нас поспешно отвели подальше в татарское селение, из которого уже были выселены все жители. Птица и скот бродили без присмотра. Все было брошено. К нам прибился пленный немец, который доил корову и поил нас молоком. Относились мы к нему нормально, но пробыл он у нас недолго. СМЕРШ позаботился о том, чтобы убрать его от нас.
Я немного отдышался - половину большого пальца на левой руке вместе с ногтем отрезали без наркоза прямо на улице, фурункул под правой рукой вскрыли и перебинтовали. Через несколько дней солдат снова был готов к употреблению.
Нас начали выводить из Крыма. Мне, как всегда, повезло на приключения - попал в группу по нелегальному вывозу из Крыма трофейного легкового автомобиля. Его, как мне сказали, уже один раз пытались вывезти. При проведении этой операции ему, бедолаге, прострелили колеса. Это был чешско-немецкий автомобиль производства завода «Шкода», упрощенная модель автомобиля-амфибии. Плавать он не плавал, но компоновка (двигатель, рулевое, ходовая) были взяты от амфибии. Выглядел он так: металлический ящик с двигателем сзади, на четырех колесах, руль справа, ведущие колеса задние, крыша из брезента. Обладал хорошей проходимостью и потреблял мало бензина. Хорошая машина.
Собрали группу по вывозу автомобиля в таком составе: офицер (наверное, помпотех), машина «виллис» с водителем Иваном Стрижаком и я - водителем на «шкоду». Задача - в ночное время выехать из Крыма, объезжая все заградительные посты. Ехали мы и день, и ночь проселочными дорогами. Конечно, устали, как собаки. Последнюю ночь я ехал последним. Стрижак засыпал на ходу. Машина у него виляла от кювета к кювету. Мне было интересно - свалится он в кювет или нет. Только эта забота не давала мне заснуть за рулем. Задачу мы выполнили - машину из Крыма вывели. Но я еще не знал, какую роль сыграет эта машина в моей жизни!
Погрузились мы в эшелоны, и повезли нас под Тулу на формировку. Орудия оставили частям, остающимся на фронте, - народу у нас оставалось 20-25 процентов. Машины в основном побиты, даже моя машина – «додж ¾», считавшаяся одной из лучших в части, потому что всегда была на ходу, на погрузке не завелась. Все было изношено, о двигателе говорить нечего, если лопнула рама, а задний и передний мосты в поперечном направлении не имели жесткости. Ехали мы в машинах, которые погрузили на платформы. Я спал в «шкоде», но за свою машину ее не считал - не ухаживал, не ремонтировал. Наверное, это было потому, что мне никто не сказал, что это моя забота. Ехали мы весело - «лишние» и не числившиеся вещи обменивали на самогон. Так я впервые увидел «окончание» войны.
Приехали под Тулу, разгрузились, начальник штаба с несколькими офицерами садится в мою «шкоду» и командует «Поехали!». Поехать-то поехали, но по перечисленным ранее причинам за всю дорогу я к ней не притронулся и не знал, в каком состоянии машина находится. Заехали куда-то в лес, вдруг спускает колесо. Хорошо, что у меня в запасе был инструмент и резиновый клей. Майор Лебедев терпел, пока я ремонтировал ранее простреленную камеру, но когда я ее намазал клеем и стал ждать, когда клей подсохнет (10-15 минут), он не выдержал. Как раньше лоцман, только не так складно, стал рассказывать, что он сделает со мной за такую работу. Я, естественно, заторопился, нарушил технологию, и был наказан - заплата пропускала воздух. Начал все снова, но теперь уже не обращая внимания на его угрозы и ругань. Он, оказывается, предварительно взял офицеров и поехал выбирать место для размещения полка и в определенное время должен был туда прибыть. Гауптвахта и другие прелести мне не были страшны, и все, что он мне говорил, не трогало. Но когда он начал рассказывать, что снимет меня с машины и заставит пасти трофейного быка, я не выдержал. Представил: лето, солнышко, зеленые поля с хорошей травой, вокруг деревни с девками и молодыми вдовушками и… я и бык. Вот лафа! И это во время войны! Я даже заулыбался. Это переполнило чашу терпения майора Лебедева. Он выхватил пистолет и стал кричать, что сейчас меня застрелит. Хорошо, что пока он рассказывал о карах, ждущих меня, я успел смонтировать, накачать и поставить колесо. С домкрата машину снимать не стал - просто столкнул, схватил домкрат, заскочил на сиденье и завел машину. Увидев все это, он сник и молча сел в машину. Расправу отложил на потом. После этого я благополучно возил его до окончания формирования полка и отправки на фронт. Машину отдали, вероятно, какому-нибудь начальнику, который укомплектовывал техникой наш полк. Но майор часто, встретив меня, удивлялся, почему я не на "губе".
Вместо противотанковых орудий мы получили двадцать самоходных установок калибром 76 мм СУ-76, несколько спецмашин и автомобилей. Самоходки были укомплектованы экипажами, получили специалистов-ремонтников и ремонтную автомашину. Организовался ремонтно-транспортный взвод с командиром - лейтенантом Гурьяновым. Пришел заместитель командира полка по технической части капитан Пентин. С ним я был связан до конца войны. С удовольствием позже об этом расскажу. За бои под Мелитополем я получил первую награду - медаль «За отвагу», а за бои в Крыму - орден Красной Звезды.
Мне основательно надоело колесить на «додже» по передовой и захотелось попридуриваться. Теперь уже не помню, как это получилось, но на фронт я выехал на полуторке ГАЗ-А с деревянной будкой, в которой размещалась ремонтная мастерская. Долго мне придуриваться не удалось. Однако все по порядку. Погрузились мы на платформы, а экипажи - в вагоны и поехали в частично освобожденную Западную Украину. Привезли нас в район городов Самбор и Стрый. Разгрузились и своим ходом пошли в Карпаты, переехав реку Сан в районе г. Санок. Моя роль в этот период сменилась. Самоходки идут в бой прямо по полю, везут на себе снаряды и ведут огонь. Мы, ремонтники переднего края, едем на машине (или машинах) за ними в пределе видимости самоходок. Если самоходка остановилась, подъезжаем, делаем ремонт, оставляем специалиста (например, электрика), оставляем запасные части, догоняем самоходки и едем дальше. Конечно, полуторку с самоходками и сравнивать нельзя! Полуторка стоит на базе и может играть только роль мастерской. На фронте все встало на свои места - был найден «додж» для транспортировки бригады ремонтников переднего края. Сидел бы я тихо на ГАЗ-А, возил бы потихоньку запчасти и не выпендривался. Но судьба - копейка… Один раз мне удалось с трофейной легковой автомашины снять мощные фары и музыкальный сигнал. Конечно, поставил на свою полуторку. Привез Гурьянова в штаб, свечу дальним светом, разворачиваюсь и даю сигнал. Выбежали все, вплоть до командира части. Увидели полуторку с деревянной будкой вместо машины, по крайнем мере, командующего фронтом! Ярости командира полка не было предела: «Снять немедленно сигнал и фары и поставить мне на машину. И почему этот обормот околачивается в тылу?». И оказался я на «додже» и до конца войны возил ремонтников переднего края, командира полка, начальника штаба, капитана Пентина, живых, раненых, умирающих и мертвых. Под огнем и в тылу, ночью без света и днем под обстрелом, по польскому бездорожью и немецкому шоссе, по фронтовым лежневкам, по карпатским горам и рекам.
Второй этап фронтовой жизни уже не запечатлелся в памяти так ярко, как предыдущий, - он не приносил новых запоминающихся ощущений. Все шло по заведенному порядку. Утром встали, если удастся, - поели, и начали тяжелый ратный труд, где плата - жизнь. Кончился день, удалось поесть - поел, удалось поспать - поспал. Завтра тебя ждет то же самое. Только теперь наш самоходный отдельный 1511 артиллерийский полк (САП - 1511) передавали отдельным армиям, располагающимся по всему 4-му Украинскому фронту, совершавшим марш-броски с одного фланга на другой. И задачи наши изменились. Теперь полк участвовал в прорыве обороны противника. Поддерживал огнем и гусеницами пехотные подразделения. У меня тоже изменилась работа. Орудия я не возил, а вез за самоходками запчасти и ремонтников. При подготовке наступательных операций или передвижении полка в большинстве случаев мне приходилось возить командиров батарей и командование полка на ознакомление с дорогами, местностью, обстановкой, затем везти начальника штаба или командира полка в момент передвижения и боя или следовать за самоходками с ремонтной бригадой и запасными частями. При такой работе и молодой памяти хорошо запоминал фронтовые дороги. Не имея карт, умудрялся безошибочно находить подразделения полка. Руководство этим пользовалось и посылало меня с заданиями даже без офицера связи.
Самоходки имели лобовую броню всего 20 мм, которая защищала только от пуль, верх закрывался от дождя брезентом. Два ее двигателя работали на авиационном бензине, которого заливали около 400 литров, а еще размещали два или три комплекта боеприпасов, уложенных на пол и привязанных снаружи. Попадание в нее любого снаряда было смертельным для машины и экипажа. Ее сила была в движении, меткости огня прямой наводкой, высокой проходимости, мужестве и слаженности работы экипажа. А горели они, милые, особенно, когда их использовали, как танки, так, что экипажи часто не успевали выскочить. Бои по Западной прикарпатской и карпатской Украине были очень тяжелыми из-за бездорожья - невысокие, но поросшие лесом горы, горные речки без мостов, осенняя распутица.
Мы были очень удивлены, впервые встретив в горах наряду с самоходками десятки обыкновенных осликов. Через спину осликов были перекинуты связанные парами за стабилизаторы мины (количество пар определялось калибром). Так же перевозились ящики с патронами, снарядами и разным армейским имуществом. Первого ослика за уздечку вел человек, уздечки остальных были привязаны к хвостам осликов, идущих впереди Так составлялись цепочки из нескольких животных. И проводники, и ослики относились к резерву ставки верховного командования. На машинах, танках, «катюшах» было написано «РВК». На осликах таких надписей не было, хотя они выполняли задание ставки.
Самоходки хорошо поднимались в гору, по мелколесью, но в настоящем лесу нужно было делать просеку, а дорогу выстилать лежневкой. После того как по такой дороге проходили самоходки, а не дай бог и танки, получалось месиво из грязи и бревен, лежащих как попало. На одну высотку мне часто приходилось ездить. Однажды пришлось везти туда командира полка, т.к. другие машины пройти здесь не могли. Километров надо было проехать не более 10-15, машина сжигала за путь две-три канистры бензина - т.е. в 10-12 раз больше, чем на обычной дороге. Пробирался я так: сначала ногами по колено в грязи прощупывал дно колеи и поправлял бревна, чтобы можно было через них переехать. После этого начинал перебираться вместе с машиной через бревна, лежащие в грязи поперек дороги. В основном-то они лежали поперек дороги, но с большим зазором. И машина, поднимаясь на бревно, проваливалась в зазор, и так на каждом бревне, несколько десятков метров. Снова прощупывал дорогу, поправлял бревна, со всеми всевозможными ухищрениями двигался дальше - часа два-три. Командир сидел и молчал. Увидел у меня трубку, попросил закурить. Я подарил ему эту трубку.
В другой раз вез начальника штаба и группу командиров самоходок на осмотр места предстоящего наступления. Осень. Дороги нет. Забираемся мы потихоньку на гору, покрытую редколесьем. Выбираем - где травка, где камешки. Стараюсь выбирать дорогу там, где место посуше. Уже заехали довольно далеко. Немного не туда заехал, и машина забуксовала. Нас потянуло назад по грязи. Я взял на тормоза, отключил двигатель, колеса не крутятся, а нас тянет с горы, как на саночках. Скользили мы и задом, и боком, и опять задом метров 200, пока нас не занесло в небольшую ямку. Мне снова пришлось взбираться на эту же гору, но осторожнее. Все сидевшие в машине восприняли это, как должное. В другой раз, когда ехали ночью заправлять горючим самоходки, было так темно, что не видел даже радиатора своей машины. Впереди меня машина срывается с откоса, исчезает в темноте. Кричим водителю: «Как дела?». Он отвечает: «Перевернулся и встал на колеса. Машина и сам в порядке». Что делать - ехать или поостеречься? Поехал я. Остальные поехали следом. Вот по таким дорогам пришлось ездить…
Еще сложнее было во время наступательного боя. Самоходки обыкновенно шли без
дороги, стреляя по всем подозрительным местам. Им, конечно, отвечали. Мы ехали
за ними, выполняя следующие правила:
• Не демаскировать самоходки;
• Не попасть самим под огонь;
• Иметь возможность при необходимости помочь самоходкам ремонтом и запасными
частями.
Тяжело было, когда в самоходку попадали снаряды, и она начинала гореть и взрываться. Помочь им мы никак не могли… А только раненым и живым. И после боя снять на запасные части все пригодное (орудия, исправные механизмы и детали, гусеницы и приборы). Конечно, и мы не были застрахованы от разных случайностей.
Рано утром я повез зампотеха полка Пентина на передовую, где стояли самоходки. Пентин ознакомился с обстановкой и приказал съездить в тыл, чтобы привести с собой машины с горючим и снарядами. Я поехал, передал приказ, и машины поехали со мной. Прошло не более часа. Подъезжая к месту расположения самоходок, увидел, как навстречу везут раненого Пентина и еще нескольких человек. За это время немцы произвели плотный артналет по этому месту. Заправка горючим и снарядами прошла без потерь. Через некоторое время мы, набрав водки, продуктов и живых кур, съездили в госпиталь, в котором лежал Пентин, чтобы проведать его. Отдали кур повару и попросили хорошо кормить нашего командира. Был он образованным, грамотным и вообще приличным человеком. После него заместителем командира полка по технической части назначили подполковника Самуэли. Это был скромный интеллигент, совершенно не приспособленный к фронтовой жизни. Пробыл он совсем недолго. Мне пришлось в это время много с ним ездить. Он плохо запоминал дороги и неважно ориентировался по карте. Поддержки нигде не имел. Вот тогда - впервые в жизни! - я встретился с открытым антисемитизмом. Командир части откровенно заявлял, что жидов не переносит его мордовское сердце. Полковник Самуэли не был ни трусом, ни подлецом. Он честно выполнял свой долг. Но война не была его специальностью.
После Самуэли зампотехом стал капитан Константин Беседин. Машины и механизмы - вот уж точно! - были его стихией. В войну он вписался, как в тяжелую работу. Был требовательным, но справедливым. Наш ремонтно-транспортный взвод защищал, хотя мы, конечно же, были не сахар, а большие обормоты. Но дело знали и своего начальника не подводили. Все были уже хорошо обстреляны, ремонтировали самоходки на передовой, под обстрелом и ночами - на нейтралке.
Запомнился электрик из Ленинграда (он называл себя питерским). Кроме инструмента, он всегда носил с собой стартер и динамо (так называли электрогенератор). Он погиб, ремонтируя самоходку, подбитую на перекрестке улиц в небольшом польском городке. Его ребята удерживали, а он все равно туда пошел. Запомнился Иван Козак (здоровенный мужик, менявший бортовой редуктор самоходки на нейтральной полосе, когда и молотком нельзя стукнуть - немцы рядом), окончивший войну в Праге.
Наш полк осенью и зимой 1944 года использовали в основном в Карпатах. Только пробьемся с постоянными боями через горы и выйдем на равнину, нас снова отводят в тыл и снова - на другом участке - идем через горы с боями до выхода на равнину. Так было три раза. Все это происходило в Восточных Бескидах, в районе Дуклинского и Русского перевалов Карпатских гор. Полку к тому времени присвоили название «Карпатский». На всех самоходках и автомашинах были нарисованы олени. По этому знаку нас и различали по всему 4-му Украинскому фронту.
Помню такой случай. Я, как всегда, везу ремонтников к самоходкам, которые успели проскочить вперед. По дороге движется скопище повозок и пехоты. Рвусь вперед, обгоняя и прижимая их к кюветам. Неожиданно выскакиваю на переправу. На переправе стоит генерал и пропускает только своих. Меня не пускают. Я сижу в кабине и не уезжаю. Переправа остановилась. Генерал посылает двух офицеров. Они пытаются вытащить меня из машины. Я не подчиняюсь. Дошло до того, что один говорит другому: «Отойди, я его пристрелю». Генерал передает команду привести меня к нему. Приводят. Я докладываюсь: «Рядовой Володин явился по вашему приказанию». - «Почему нарушаешь порядок?» - «Я ничего не нарушаю, товарищ генерал. Как ехал в колонне, так и подъехал». - «Из какой части?» - «Отдельный Карпатский самоходный полк!» - «Ох, уж эти самоходчики! Проезжай скорее, ради бога (и так далее на фронтовом жаргоне)». Он, конечно, не видел все мои выкрутасы на дороге. Машину офицеры пытались завести, но не смогли. Я в кабину и быстрей через переправу. За остановку движения на переправе могли и расстрелять. Но я рвался «вперед, на запад». Нельзя сказать, что осторожность отсутствовала. Прошедший фронтовой год научил многому.
Везу как-то офицера связи. Где часть - он не знает, указатели немецкие. Дорога хорошая, но мне не нравится: земля от разрывов на дороге лежит целыми комьями, следов никаких на дороге нет. Я приостановился. За нами идет танк. Говорю офицеру: «Давай пропустим». Танк обогнал нас. Пропустили, поехали следом. Через считанные минуты танк подрывается на фугасе. Его подняло (30 тонн!), развернуло и сбросило с дороги. Дальше по этой дороге ехать не захотелось. Командир быстро вспомнил, куда и как надо ехать.
Бывали и такие случаи, которые никак невозможно предусмотреть, предвидеть и даже предположить. По лесной дороге много раз ездил на передовую к самоходкам. Возил ремонтников, запчасти и командиров. Ездил иногда несколько раз в день. Приходилось переезжать через речку вброд, т.к. мост был сломан. Поехал однажды один. Подъезжаю к речке, а она вспухла от прошедших дождей, бурлит, поднялась высоко. Я снимаю ремень вентилятора, укрываю брезентом перед машины и пытаюсь проскочить. Ничего не получается - машина глохнет посередине речки. Поток такой, что может и перевернуть ее! Подъезжают несколько американских бронетранспортеров, объехать не могут. Я раздеваюсь, лезу в речку, они бросают трос, цепляю мою машину. Сажусь за руль, и они, пятясь, выволакивают меня. В это время раздается взрыв - транспортер задним колесом наезжает на фугас или мину. У бронетранспортера отрываются задние колеса, сидящие на нем получают ранение. Я сматываюсь, дабы они от злости не намылили мне шею. Кто мог это предусмотреть? Сколько здесь прошло техники и людей, а «господин случай» сам выбрал момент.
Лето кончилось, наступили холода и выпал снег. Война шла своим чередом. В очередном наступлении в районе Дуклинского перевала наш полк вошел в состав группы прорыва. Мне на такие вещи везло, поэтому без моего «доджа» и без меня там не обошлось. Операция была задумана и выполнена, по моему мнению, классически. В прорыв на узком участке вошла мобильная группа, состоящая из нескольких танков, полка наших самоходок, автомашин с пехотой, снарядами, горючим, ремонтниками, связистами. Танки и самоходки огнем подавляли любое сопротивление, очищали дорогу и шли дальше. Автомашины вплотную шли по дороге за ними. Разрозненные группы немцев отступали по горам и горным дорогам справа и слева от нас. В драку немцы не вступали, а наперегонки с группой прорыва, за которой шли уже остальные войска, уходили из окружения. Конечно, местами все перемешивалось. Население (поляки, чехи и словаки) удивлялись и спрашивали: «Что это за война?». Было тихо, вдруг прошли русские танки (это самоходки), через некоторое время на машинах проехали немцы, затем на машине проехали русские, затем немецкая пехота, за ней - русские обозы. Все сталкивались в этом селении в коротких стычках на пересечении дорог. Убитые лежали слоями. Все спешили. Русские вперед в прорыв, немцы назад из окружения. Полк с небольшими потерями выбрался из Карпат на более ровную местность.
Полк встал на постой в селе Грядки недалеко от города Кошице. Жили мы в крестьянских домах, спали на полу вповалку. Вшей у всех было предостаточно. Бань в селах почему-то не было. В это время в полк приехал Пентин, уже майором, и заместителем командира бронетанковых войск армии, в состав которых входил наш полк. Нашел меня, мы с ним тепло встретились. Он попросил написать, какие запасные части нужны для моего «доджа» и при этом не мелочиться… Через несколько дней в село приезжает автомашина, и водитель разыскивает Володина. Подъехал он к дому, где мы жили и стояла моя машина. Убедившись, что я действительно тот, кто ему нужен, сгрузил все запасные части и уехал. После этого я больше двух недель каждый день - с утра до вечера - лежал под машиной (на снегу, при минусовой температуре), ремонтируя «додж». Ремонтом, правда, это назвать трудно, т.к. я менял мосты, рессоры, колеса. Остались старыми только мотор и кузов. К концу года машина была готова. Решили ее «опробовать». Для этого выделили группу (лейтенант Гурьянов - наш взводный, я и еще пара шоферов). Взяв чистые канистры, отправились в Венгрию за вином для встречи нового, 1945, года. Поездка была удивительным экскурсом в другой мир. Отъехали мы километров за 100-150. Деревни не разбиты, все цело, домики хорошей постройки - война обошла стороной эти места. У нас были деньги, по-моему, кроны. Нам показали, где можно купить вина. Подъехали. Вышел хозяин и пригласил нас в дом, даже повел в подвал, где стояли бочки с вином. Стеклянной трубкой с шаром ловко набрал в шар вино и разлил по бокалам. Попробовали мы сорта три. Бокалы немаленькие, вино хорошее, пьется легко. Наверное, мы все пили такое вино первый раз в жизни, и не знали, сколько его можно выпить. Купили две или три канистры. Попрощались с хозяином, стали грузиться в машину. Я видел, что ребята уже достаточно пьяны - пока я осматривал машину, хозяин их еще угостил. Сели мы все впереди в один ряд (у «доджа» это можно сделать) и с песнями поехали домой. Бог нас миловал. По незнакомой дороге, ночью, без света, в хорошем подпитии, объезжая пикеты, нигде не останавливаясь и не плутая, мы приехали к нашему дому. Как выбирались ребята из машины, я не видел, но сам, когда выбрался, ухватился за крыло и долго стоял, боясь упасть. Всем взводом с этим вином мы встречали Новый год.
Итак, мой «додж» отремонтирован, «опробован» и хорошо обмыт. В полку мгновенно появилась необходимость в его использовании. Начались ежедневные поездки на передовую в район Кошице для ознакомления с местностью, в штаб, куда-то в тыл. Рано вставал, поздно ложился. Поэтому место всегда доставалось у порога и, конечно, без подушки и какой-то постели.
В начале января 1945 года была предпринята безрезультатная попытка наступления на г. Кошице (может быть, это был отвлекающий маневр). Затем наш полк перебросили в район Кросно на правый фланг 4-го Украинского фронта и передали 38-й армии, которая наступала в направлении Новый Сонич, Краков, Моравска Острава. Это была уже южная Польша. Не было таких гор, лесов; дороги были лучше. Но еще была зима. Наступление протекало нормально. Запомнились военные девушки-регулировщицы, стоящие на перекрестках дорог, «отдающие честь» и размахивающие своими флажками, давая разрешение и направляя движение. Такого мы еще не видели на карпатских дорогах.
За месяц-полтора мы хорошо продвинулись. Был взят Краков. Во время этой наступательной операции у нас в полку потерялась одна самоходка. Исчезла вместе с механиком-водителем. Выделяется команда: офицер, механик-водитель и автомашина «додж 3/4» с водителем. Конечно, попал я. Заправляем полный бак. Берем дополнительно бочку горючего. Получаем команду - без положительного результата не возвращаться - и отправляемся в свободное плавание по району прошедших боев и возможных маршрутов пропавшей самоходки. Это было замечательное путешествие по Польше вокруг Кракова и самому городу. Район не был разрушен, т.к. затяжных боев здесь не было. Мы осмотрели город от центра до окраин. Полюбовались готикой Кракова и аккуратными поселками, объехали все места боев (особенно те, где принимали участие самоходки нашего типа СУ-76). Насмотрелись на останки боевых машин и экипажей. Ночевали в жилых домах с разрешения хозяев. Продукты, деньги и какие-то вещи у нас были, так что за ночевку мы могли расплатиться и выпить с хозяевами. Поляки нас принимали с уважением. К тому времени я по-польски понимал практически все, говорил, конечно, слабо на смеси украинского, словацкого, чешского и польского.
Мы расспрашивали жителей об окружающих селениях, боях, останках танков и самоходок. От них мы узнали о концентрационном лагере «Освенцим» и, конечно, туда поехали. Прошло не более двух недель после его освобождения. И мы могли видеть все таким, как было в момент освобождения - все осталось нетронутым, только немного запорошено снегом. В лагере еще жило много бывших заключенных, которым некуда было уходить, т.к. их родные места или страны еще не освободили, или находились за линией фронта (французы, англичане, бельгийцы и т.п.). Подкармливали их, наверное, жители города и окружающих поселений. Мы с ними побеседовали, посидели на двух- трехэтажных нарах. Они нам рассказали о том, как здесь уничтожали людей, отравляя газом, затем сжигая в печах. Я обошел все эти помещения, видел печи, газовые камеры, склады, где в мешках хранились женские волосы, детская, мужская и женская обувь. Все отдельно, все аккуратно, по-немецки расфасовано.
Несмотря на наши усилия, разыскать самоходку нам не удалось. Пошли на «военную хитрость» - нашли сгоревшую самоходку, написали на ней номер пропавшей самоходки, привезли коменданта близлежащего городка, «подарили» канистру бензина, попросили подписать акт, выпили водки и отправились восвояси с чувством исполненного долга.
При докладе офицера командованию полка я не присутствовал, благодарности за проделанную «операцию» не получал. Втайне надеялся, что все сойдет с рук, но эта операция имела продолжение.
Прошло уже больше месяца после окончания войны. И войска уже начали выводить из Польши и Чехословакии. Проходит слух в полку, что одна из наших самоходок стоит прямо на дороге где-то в Польше. Командование полка, не афишируя, действует - посылает людей, и абсолютно исправную самоходку пригоняют в полк. Если верить слухам, то механик-водитель (как сейчас бы сказали татарской национальности), ехавший в одиночку на самоходке, остановился в каком-то польском селении, загнал самоходку в сарай и даже замаскировал дровами. Говорили, что он продал ее полякам. (Тогда там были «армия крайова» и «армия людова», боровшиеся за независимость Польши, и оружие им было нужно). Возможно, механик за это получил свои злотые, на что жил и даже женился на полячке. СМЕРШ взял его в парикмахерской. Самоходку вывели на дорогу, но угнать не смогли, т.к. в ней не было бензина. Не знаю, как офицера, командующего нами, но меня никто никогда ни о чем не спрашивал.
В передвижениях, сражениях, поездках прошел остаток зимы и часть марта. Пришла весна. Больших наступательных операций не было, но мы с постоянными боями методично продвигались по Польше, Чехословакии и даже добрались до Германии. Все это время вместе с нами шел Первый Чехословацкий корпус, включенный в состав 4-го Украинского фронта. Первым немецким городом, который мы взяли, был Ратибор (теперь польский город Рацебуж). Все население из города было вывезено или ушло. Дома многоэтажные (этажей 4-6). Лифтов в домах я не видел. Мебель, одежда, утварь, даже самодельные консервы можно было найти в этих домах. Наши солдаты забирали все, что нравилось. В это время я возил полкового врача, т.к. санитарная машина была в ремонте. Мы остановились недалеко от этого города. Я привез в санчасть большой ковер, а ребятам в ремонтно-транспортный взвод - самодельные консервы, которые видел первый раз. Себе я хотел найти только чистое нижнее белье. Мужские кальсоны найти не сумел, а взял какую-то пижамку - белую в голубой горошек. Не прошло и нескольких дней, как город начал гореть. Солдаты заходили в дома, брали, что могли унести, а затем бросали в комнату спичку. За пару недель город сгорел весь. Батистовую пижамку я надел, но носил ее недолго. В это время получилось так, что я не раздевался много дней. Чувствую, что мне что-то мешает, оказалось, что пижамка не выдержала и разорвалась в клочья. Не снимая брюк и сапог, я засунул руку за пояс, захватил пижаму, вытащил и выбросил. Больше батистового белья никогда не носил.
Я никогда не брал и ничего не посылал домой – даже тогда, в условиях войны, мне казалось, что так делать нельзя, за это можно заплатить жизнью. Но однажды все-таки отступил от своего правила. У меня в машине все время за спинкой сиденья лежал заряженный карабин. Часто стрелял из него по немецким самолетам и просто по веткам деревьев. Он был хорошо пристрелян, и я мог попасть на спор в любую развилочку веток. Конечно, иногда этим хвастался. Видно, кому-то это надоело, и карабин однажды исчез. Я утащил для себя другой карабин у какого-то спящего солдата. Однако ничего не проходит безнаказанно. Наверное, в этот же день я сидел в кузове машины во дворе дома, где размещалась наша санчасть. Здесь же укрылись самоходки, пехота, обоз, машины. Стояли тесно. Мой «додж» упирался радиатором в какую-то повозку. Передовая рядом. Я только отвез раненых в госпиталь и от нечего делать читал оставленный ранеными альбом со стихами. Начался обстрел, я не пошел в подвал дома, а продолжал читать. Вдруг раздался взрыв. Полетели доски, палки; дым, крики, …. Откуда-то что-то течет. Начинаю разбираться. Мина попала в повозку, к которой «додж» был прижат радиатором. Повозку разворотило, осколками пробило кабину над моей головой, пробило и аккумулятор – из одной банки вытек электролит. Среди наших есть раненые и убитые. Врач обработала раны, и я повез раненых в госпиталь. Заводил машину ручкой и до вечера с пробитым аккумулятором возил раненых. Еще раз убедился, что брать ничего не нужно – обойдется дороже.
Сейчас уже не помню по какой причине и обстоятельствам мне пришлось везти группу ребят из нашего ремонтно-транспортного взвода из 5-6 человек. Поздно вечером попадаем мы в маленькое немецкое селение. Жителей нет, все брошено, даже скот. Но такое впечатление, что все только сейчас ушли. По нашим меркам народ жил зажиточно - дворы с хорошими домами, сараями, помещениями для скота, надворными постройками, даже имелись сельхозмашины! Нам необходимо было переночевать. Выбираем один хороший дом с большой кухней-столовой. Растапливаем печь, готовим ужин и располагаемся на ночлег. Выставлять дежурных не стали - всем хочется спать. Договорились только поставить зажженную лампу при входе в дом и загнать машину в сарай.
Оружие у нас было у всех (пистолеты, карабины, автоматы), однако при нападении вряд ли мы могли оказать какое-либо сопротивление. Все заснули дружно и проспали до утра. Утром я занялся машиной, т.к. было пробито колесо. Через короткое время слышу, что в соседнем сарае (на сеновале под кровлей) начинается возня и вопли. Оказывается, солдаты с утра начали более тщательный осмотр помещений в надежде найти что-либо полезное для себя или отправки домой. Это в последнее время поощрялось и называлось «трофеями». На сеновале, под крышей сарая, оказались спрятавшиеся женщины, а в чемоданах их вещи. Конечно, женщин солдаты использовали «по назначению», а чемоданы забрали в качестве трофеев. Мне было мерзко и противно это видеть. Однако запретить или урезонивать было не принято - «пусть немцы заплатят хоть чем-то за те беды, которые причинили нашему народу». Немецкая пропаганда создала страшный образ русских, убивающих и насилующих всех подряд. Поэтому из первых городов и селений немцы уходили или прятались все, а если оставались или попадались, то почти без сопротивления подчинялись своей участи. Мужчин солдаты не нашли - их или не было, или они спрятались хорошо. А ведь они спокойно могли перебить нас, когда мы спали! Я постарался поскорей починить машину и увезти солдат из этого селения.
В конце марта - начале апреля из Верхней Силезии нас вместе с 38-й армией поворачивают резко на юг - снова в Чехословакию, снова в Карпаты, под Моравску Остраву. Опять горы, лес, реки - привычные места. Бои за Моравску Остраву продолжались до конца апреля. Однако стало значительно легче. Наступила теплая и сухая весна, горы здесь более плоские, дороги значительно лучше. Да и мы за это время, наверное, чему-то научились. А самое главное - экипажи самоходок освоили машины, научились их водить по этим горам, метко стрелять, маскироваться, беречь себя и машины. Да и командиры научились беречь людей. Произошел за это время и естественный отбор в экипажах - всех «троечников и неумех» немцы выбили. Но бои шли, люди все равно гибли, самоходки горели. Только теперь чаще спрашивали - как экипаж? Все ли целы? Самоходки были, а вести их в бой было некому. Но было и другое. Находясь однажды утром около самоходок, стоящих на огневом рубеже, стал невольным свидетелем такого события: водитель вчера выскочил живым из горящей машины, к вечеру его посадили на другую самоходку, которую в ночном бою тоже подбивают, но он опять выбрался живым. Теперь его сажают на третью машину, которую некому вести в бой утром. Он уже и не знает, что ему и делать-то… Мне стало жаль парнишку - нельзя же в течение одних суток трижды испытывать судьбу! Нашел санинструктора, попросил забинтовать механику посильнее немного обожженные руки, посадил в машину и отвез в тыл к полковому врачу, который рассказал всю правду. Перекантовался он пару дней. Потом воевал до конца войны и остался живым.
К Первому Мая была взята Моравска Острава и войска бодро двинулись на город Оломоуц, но до него нужно было еще пройти более 100 км. Правда, немец был уже не тот, т.к. бои шли уже в самом Берлине. Однако сопротивление оказывал упорное. Наверное, 7-го мая 1945 года мы подошли к пригороду Оломоуца, самоходки и машины стояли под прикрытием одноэтажных домов, а немцы били по нам «болванками» (снаряд был сделан из одного куска металла), которые шлепались, не взрываясь, или летели, кувыркаясь, вдоль улицы. Слышу, меня разыскивают. Являюсь к начальнику штаба майору Лебедеву. Срочно нужно везти офицера связи с охраной (один разведчик) в штаб 38-й армии. Сели мы в «додж» и поехали в тыл. Немного отъехали от передовой, и по дороге стало невозможно ехать - как будто с ума сошла вся наша армия - «прут вперед, на запад». Машины, повозки, пехота, пешком и на лошадях, тылы с каким-то скарбом. Так мы пробивались километров десять. Затем начали искать штаб. Офицер говорит, что штаб был здесь, а теперь его нет. Объехали несколько поселков - не нашли. Стемнело, где искать штаб - не знаем. Офицер и охрана (разведчик) пристроились ночевать в избе, я, как всегда, в кузове «доджа». Пошли в избу поужинать. Зашли к связистам, которые обосновались там раньше нас, а они говорят: «Слышали, что завтра кончится война?». Это прозвучало дико. Как это кончится? Немцы рядом стреляют, и мы стреляем. И таких стреляющих - миллионы. Как это остановить?
Поели, выпили, легли спать. Я проснулся, когда чуть начало светать. Сразу пошел будить офицера. Об окончании войны уже говорят все. Офицер решил ехать в наши тылы, там, наверное, есть связь. На дороге царит несусветное безобразие - все прут вперед, толком не зная, куда и зачем. Опыт езды в такой свалке у меня был большой, машина проходимая, наглости не занимать, так что до своих тылов мы добрались довольно быстро. Стояли они близко от передовой. На передовой сначала было тихо, затем на немецкой стороне заиграли рожки. Никакой стрельбы не слышно. Офицер связи говорит, что нашему полку пришла команда двигаться на Прагу, т.к. уже открытым текстом чехи просят помочь Праге, не допустить к ней немецкие войска. Я попросил офицера пока это не обнародовать, а приказать заправить нашу машину и получить бензин в запас. Так он и сделал. Я зашел к своему другу, водителю санитарной машины Петру Бронникову. Он достал спирт, и мы с ним выпили за окончание войны. За это время тылы собрались, и все двинулись на Прагу.
Сначала двинулись, соблюдая подобие колонны, но через час-два все нарушилось
и перепуталось. Начали встречаться населенные пункты, деревни, города. Народ
стоит сплошной линией вдоль дороги с цветами. Бросаются, виснут на шее,
обнимают, целуют. И, конечно, предлагают выпить. Пражское радио постоянно просит
о помощи. Народ показывает дорогу на Прагу. Залезают в кузов «доджа», угощаются
сами и угощают нас. Братаемся, выпиваем, прощаемся.
Иногда встречаются колонны немцев, которые едут на повозках и даже на машинах.
Идут без оружия. Но никто их не осматривает, повозок и машин не обыскивает.
Оружие в достаточном количестве валяется по кюветам. Немцев никто не трогает.
Могут только отобрать часы или снять сапоги. Разведчик, который ехал с нами,
безуспешно старался разыскать и снять кожаную куртку для меня, т.к. считал, что
водитель должен ехать с ними только в куртке. Мы рвались вперед, думая, что
первых лучше встречают, больше почестей и форса. До Праги было 200-250 км. Стоял
жаркий солнечный день. В радиаторе закипела вода при затяжном подъеме. Я долил в
радиатор бензин, восстановилась циркуляция, и машина вытянула в гору. Наконец мы
вырвались вперед. Спрашиваем, когда проехали первые русские. Говорят, что не
больше пятнадцати минут как прошли танки. Мы, конечно, «на газ» - нужно ехать
первыми. Выезжаем из этого городка и попадаем под обстрел. Или танки не наши,
или нас приняли за немцев. Быстро вернулись в этот городок. Решил привести себя
в порядок, попросил теплой воды. Любезно принесли мне тазик с водой. Побрился,
помылся, причесался. Подходят чехи, удивляясь, говорят: «Вы, оказывается,
симпатичный молодой человек». Представляю, каким я был, если неделю не брился,
суток двое не умывался, гнал по пыльным и грязным дорогам в открытой кабине двое
суток.
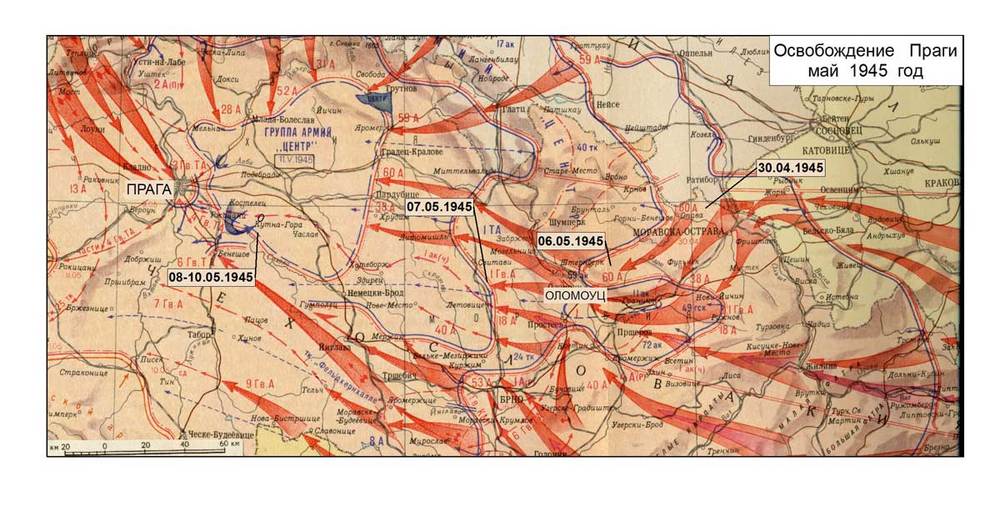
Стрельба прекратилась, и мы помчались опять - вперед, на Прагу! - стараясь снова попасть в число первых. Но это было не так просто. Добавились колонны движущихся к Праге немецких войск. Они никуда не спешили, ехали в основном на повозках и шли пешком аккуратно по правой стороне дороги. Наши войска их обгоняли по левой. День клонился к вечеру. В какой-то момент мы с удивлением заметили, что, насколько нам видно вперед и назад, по правой стороне дороги движется многокилометровая колонна немцев. Наших солдат нигде не видно. Только наш «додж» с офицером, солдатом и водителем. Нахально обгоняем эту многотысячную толпу бывших непримиримых врагов. Почему они нас не пришибли, до сих пор понять не могу! Наверное, сработала привычка к порядку - не было команды. Оружия в кюветах – сколько хочешь! Стало жутковато. Договариваемся – быстро добираемся до первого селения, где останавливаемся ночевать. Хватит испытывать судьбу - война уже кончилась!
До первого городка мы добрались уже в темноте. Нас сразу окружили чехи и стали спрашивать, чем нам помочь. Узнав, что мы решили здесь ночевать, любезно пригласили в дом. Машину мы оставили около дома. В таком «частном» доме я до сих пор не был. Ограждение вокруг дома сделано из металлической сетки, все помещения просторные. Кухня оборудована всем необходимым для подогрева воды, отопления, канализации и приготовления пищи. Хозяину лет 40-45, хозяйке 20-25. В комнатах, прихожей, столовой, спальне хорошо подобранная мебель. Я еще и не видел такого дома, ведь по нему прошла война, а все цело… Угощали нас радушно. Себя мы старались вести прилично. Не знаю почему (может быть от пережитых стрессов), я выпил очень много разных напитков, но не пьянел. Хозяин это увидел и предложил мне попробовать пунш его приготовления. Как он его делал, я не видел. Принес он пунш в тонком высоком бокале, он был похож на взбитый яичный белок с какими-то добавками, наверное, изготовлен на чистом спирте. Такого крепкого приятного напитка мне больше никогда не удалось попробовать! После этого бокала я попрощался с хозяевами и отправился спать в кузов «доджа», вежливо отказавшись от спальни.
С рассветом я разбудил спавших в доме попутчиков, и мы снова отправились в
Прагу. Рано утром нашли свой полк, стоящий на окраине города и празднующий всем
составом победу. Город Прага не разрушен. Дома все такой постройки, как я только
что описал, ухоженные, чистые, нигде ничего не валяется. Наши самоходки и машины
стоят, как попало, охраны никакой нет. Солдаты и офицеры неизвестно где, все
пьют. Мы тоже влились в это веселье. Продолжалось оно как минимум еще сутки.
Наконец, проснувшись, наверное, 11 мая 1945 года, я понял, что такой разгул
должен когда-то кончиться. К своему «доджу», после такой суровой дороги, я и не
прикоснулся. И взялся наконец обхаживать своего родного, нигде меня не
подводившего дружка. Закончил это занятие уже во второй половине дня.
Ремонтно-транспортный взвод основным составом из дома уже перебрался в садик,
поставили столы под цветущими деревьями и продолжали пить «за Победу!». Я
отказался от выпивки и закуски, лег на скамеечку в проходе под деревьями и
заснул. Просыпаюсь от выстрелов и криков. Вскакиваю со скамейки, передо мной
стоит майор Лебедев, глаза дикие (я знал, что он пьяный дурной). Фронтовая школа
сработала - я бью его плечом в грудь, освобождаю себе проход, поворачиваюсь к
нему спиной и убегаю из сада. Однако он успел ударить меня пистолетом по затылку
и рассек голову. Кровь залила гимнастерку. Ребята, которые сидели за столом,
мгновенно переметнулись через сетчатые заборы. Майор успел выстрелить им под
ноги. Моментально прибежала врач полка. Я попытался к себе ее не допустить, т.к.
был страшно зол и обижен. Но она все-таки голову осмотрела и перевязала. Кость
не повреждена. Чехи застирали и погладили гимнастерку. Я взял в машине вина,
продуктов, позвал ребят, хозяев дома, и предложил всем посидеть со мной за
столом. Хозяева чехи просили только не стрелять, показывая дырки в потолке.
Стрелять, конечно, не стреляли, все обошлось спокойно. Но не успели мы закончить
нашу трапезу, как поступила команда «по машинам!». Нас выводили из Праги. Выпил
я прилично, во мне кипела обида - прошел все бои, а после войны ни за что, ни
про что разбили голову. Твердо для себя решил - убью майора Лебедева, как только
он ко мне подойдет. В заднем кармане брюк у меня всегда лежал бельгийский
дамский пистолет, благоприобретенный несколько месяцев назад. Я из него
прекрасно стрелял.
Погрузка, формирование колонны, передвижение на 20-25 км до города Колина,
размещение в казармах с пьяным составом - без приключений не обошлось. Но майор,
хотя и командовал всем передвижением, меня обходил далеко - видно, чувствовал,
что так надо.
Здесь мне, наконец-то, рассказали, с чего все началось.
В штаб пришла команда о передислокации из Праги в другое место. Кинулись собирать командиров - никого найти не могут. Экипажей самоходок нет - расползлись по домам. Майор пошел проверять наличие боевых машин - самоходок. В одной из них из люка торчат ноги спящего механика-водителя. Лебедев попытался разбудить спящего, тот заматерился, майор дернул его за ногу, тот пнул его в лицо. Пока майор снимал притороченную кувалду, механик захлопнул люк и удрал из машины через задний выход. Тут только он схватился за пистолет и побежал искать обидчика. На пути ему попался на глаза гуляющий ремонтно-транспортный взвод и я, который, проснувшись, преградил ему дорогу.
Майор подошел ко мне на третий день при обходе парка автомашин. Мы лежали под машинами и очищали их от карпатской грязи. Подошел не один, а с группой командиров. Спросил, не болит ли голова, надо ли мне чем-нибудь помочь, и извинился, что так получилось. К тому времени все уже во мне перекипело и я сказал, что мне ничего не надо.
В районе Колина мы простояли почти до осени. Мне приходилось много раз ездить в Прагу и другие города Чехословакии и даже в Польшу.
В моих руках «додж» еще бегал довольно резво, хотя у него был вид очень разбитый и потрепанный. Наверное, пора более подробно рассказать о фронтовых ранах моего друга - второго «доджа ¾». Первое его ранение произошло по моей вине еще в самом начале пути по Карпатам. Мне пришлось без сна ездить несколько суток. Буквально засыпал за рулем. Просил майора дать поспать, но нужно было везти командиров самоходок на осмотр местности предстоящего наступления. Дороги узкие, грязные. На дороге стоят два танка, я их объезжаю справа на приличной скорости и случайно зацепляюсь за гусеницу кузовом сантиметра на 2-3. То ли заснул, то ли потерял бдительность. Удар был сильный. Металлический кузов смялся и оторвался в одном углу. Часть командиров вылетела, а я вдобавок всех их обругал за то, что не дали поспать. Все это они вытерпели молча. Командиров, конечно, свозил куда было нужно, затем привязал погнутый кузов тросом за дерево и несколько раз подергал машиной, пока не разогнул кузов. Потом поставил «доджа» поперек дороги и попросил водителя «студебеккера» ударить несколько раз буфером по отогнутому кузову. На этом ремонт закончился, и я еще двое суток ездил без сна. Сказалось нервное напряжение.
В другой раз, при ночном марше снова в левую сторону кузова, только сзади, на полном ходу врезалась самоходка. Повреждения аналогичные, ремонт - такой же. В третий раз «доджу» хорошо досталось, когда мина попала в телегу перед его радиатором. Пробитое случайными пулями и осколками лобовое стекло, мелкие повреждения при езде по лежневкам - будем считать легкими ранениями. Словом, живого места на нем почти не было. Командование решило, что «додж» нужно отдать на свалку, чтобы он не позорил армию-победительницу. С ним поступили так же, как с инвалидами войны - с глаз долой, из сердца вон. Распрощался я со своим «любимым другом» еще в Чехословакии, т.к. меня направили к какому-то большому чину, чтобы отвезти его на трофейной легковой машине марки «Рено» во Львов.
Затем ездил на немецкой дизельной грузовой машине марки «Бюсинг-Наг» - перевозил из Чехословакии и Польши тылы и всякое трофейное и благоприобретенное барахло для батальона и начальства. Машина мне очень нравилась. Пришлось под ней полазить, изучить, кое-что подремонтировать, привыкнуть, и она меня не подводила до тех пор, пока мудрые командиры вместо дизельного топлива не попытались заставить ее потреблять отработанное масло с бензином. Она этого не хотела и стала заводиться только с буксира.
По этому случаю хочу рассказать об одной ситуации. Вожусь я около своего «бюсинг-нага», после того, как его заставляли ходить на всяком дерьме, вместо солярки, злой как черт. Подходит майор Лебедев и спрашивает: «Ну, что - хорошая машина?» Я ему со злостью отвечаю: «Машина-то хорошая, да дуракам досталась!». Он ничего не сказал, а только хмыкнул и добавил: «Ну, ты даешь!». И ушел. Только после этого до меня дошло - в то время за такие слова мне по статье 58-10 (восхваление иностранной техники) могли дать срок минимум пять лет лагерей, если бы он об этом сообщил в СМЕРШ. Но он этого не сделал. Спасибо ему за то, что оказался приличным человеком! Многие фронтовики после войны получили лагерные сроки именно за это.
В это время наш полк разделили на два дивизиона, 664 и 665. Я попал в 664 отдельный самоходный дивизион. Своим ходом мы ушли из Чехословакии через Польшу в Западную Украину, в город Станислав (после войны он стал называться Ивано-Франкоск). Командиром дивизиона назначили майора Лебедева.
"Бьюсинг-наг" пришлось бросить, т.к. заводиться она не захотела совсем. Самоходки вместе с экипажами отправились в «летние лагеря». Их разместили в бандеровских селах. Ремонтно-транспортный взвод оставили «на зимних квартирах» и поручили ему реконструкцию большого кирпичного сарая для размещения самоходок и автомашин. Однако ремонтно-строительными делами никто из нас никогда серьезно не занимался. Да и никому этим грязным делом заниматься не хотелось. А работы предстояло много: сделать в кирпичных стенах сарая пять или шесть проемов для выхода самоходок, перегородить сарай поперек двумя стенами и еще разную мелочь. За неделю сделали один проем и выложили два ряда кирпичей для стенки. Наконец, как-то утром приехал майор Лебедев оценить наши труды. Ярости его не было предела. Что он нам говорил, и что обещал с нами сделать, описать нормальным языком невозможно. Даже лоцман по сравнению с ним выглядел младенцем. Своей яркой речью он нас так вдохновил, что уже через полчаса все поснимали гимнастерки и нательные рубахи, по всему громадному сараю стоял грохот, пыль от битых кирпичей, шлепков раствора и кладки кирпичей. Майор больше ничего не говорил, только, заложив руки за спину, через каждые час-полтора обходил и осматривал «поле боя». К закату солнца «бой» закончился. Пришел майор, обошел, осмотрел проемы, стенки и сказал: «А я вам здорово помог! В зебру вашу мать». И ушел, заложив руки за спину. Знал он всех нас, как облупленных, с самого создания полка, переформировок, всех видел в бою, отобрал к себе в дивизион и как-то по-своему любил.
Насколько я знаю, он был родом из Ленинграда, закончил энергетический институт. С женой разошелся, когда она добровольцем ушла на фронт. Видно, сильно это переживал, поэтому иногда в ярости не владел собой. Человек он был умный и справедливый. Я его уважал, несмотря на столкновения, которые у нас с ним происходили. Теперь, много лет спустя, когда я пишу это и вновь осмысливаю его действия, мне кажется, что у него еще была какая-то тайна, о которой он никому не говорил. Он хорошо воевал, часто заменял сменяющихся командиров полка, был образованным и грамотным, а в звании его не повышали. Он начал войну и закончил ее в звании майора, в то время как некоторые получали повышение в звании по нескольку раз.
Пошла первая волна увольнения из армии людей старшего возраста и имеющих ранения. Основной состав водителей и ремонтников, с которыми воевали, разъехался по домам. Новых автомашин нам не давали, а старые ремонтировать было некому и нечем. Нам с одним водителем удалось отремонтировать и освоить трофейную немецкую дизельную автомашину марки «фомаг». Это был громадный грузовик с колесами почти моего роста. В кабине помещалось до 5 человек. Управляли мы вначале вдвоем. Один крутил руль и давил на газ и тормоз, а другой переключал скорости. Грузоподъемности его мы не знали, поэтому грузили, сколько войдет в кузов. Когда мы появлялись на дороге, а тем более на перекрестке, все машины моментально прижимались к обочине. Однако скоро мы обнаглели и самостоятельно гоняли эту махину (зачастую еще и в подпитии!).
Однажды везли в Станислав доски, нагрузили немерено, да еще насажали «леваков» - тоже немерено. За что и были наказаны. Лопнуло колесо, да так, что в селе из окон чуть не вылетели стекла. Пришлось вулканизировать камеру в полевых условиях обыкновенным поршнем от автомашины. Разрыв был такой, что поршень переставляли 12 раз. Провозились долго, заночевали, утром продолжили ремонт, закончили только к обеду. С нами ехали еще несколько солдат-грузчиков. Денег мы заработали и дали солдатам на пропитание и выпивку. Колесо мы накачали перед этим, залили в камеру ведра два воды. Решили, что это надо сделать для охлаждения - было очень жарко. Идея, конечно, была моя. Затем пошли обедать к хозяйке, у которой ночевали. Обед и литр самогона были заказаны и оплачены. После трудов праведных обед мы благополучно уничтожили вместе со вторым литром самогона. Только потом решили, что теперь можно двигаться в часть. Солдаты время не теряли и тоже заправились не хуже нашего. Доехали благополучно, разгрузились, пришли в казарму и попали на построение дивизиона - вручение боевых наград. Идем на построение, а солдаты, которые приехали с нами, в это время устраивают скандал на кухне, требуют обеда. Мне майор Лебедев вручал чешскую медаль «За храбрость» и медаль «За освобождение Праги». Солдат Володин, четко печатая шаг, подошел, доложился, получил, сказал: «Служу трудовому народу!», и снова встал в строй. После построения майор пытался узнать у меня, кто так напоил солдат. Не моргнув глазом, я ему объяснил, что они почти сутки не ели, выпить я им дал совсем немного, вот они и захмелели. Он сделал вид, что поверил.
В это время появился подполковник Пентин и предложил мне свозить его на трофейной легковой автомашине «Прага популяр» по воинским частям, базирующимся в районе Мукачева - Берегово. С начальством он уже, конечно, договорился. Я с удовольствием согласился и не прогадал. Он ехал с проверкой, так что его там хорошо принимали, и мне досталось повышенное внимание.
Наступила осень, даже разбитые после войны дороги не портили прекрасные пезажи. Небольшие горы, горные речки, курортные места, европейские поселки и города, фруктовые сады, ухоженные поля. Все еще частное. Помню село Хуста, расположенное на горном перевале. Въезжали мы в него с северной стороны - винограда не видели. Но как только перевалили на южную сторону, увидели виноградные плантации. Заехали, поели, набрали винограда. Там я впервые в жизни видел и ел виноград. Эта поездка запомнилась, как праздничный двухнедельный отдых. Пентин уговаривал перейти к нему личным шофером. Он уже женился, быстро продвигался по службе, с ним мы были в дружеских отношениях. Я уважал его как приличного человека и толкового командира, но в услужение к нему (да и к любому другому) пойти не мог (и не могу до сих пор!). Ответил так: «Служить-то рад, прислуживаться тошно». Ответ его удивил, но на наши отношения не повлиял.
Запоздней осенью подкралась зима. Боевые друзья демобилизовались, машины ремонтировать стало совсем некому, дивизион пополнялся молодыми, необстрелянными солдатами. Стало скучно, и я решил немного попридуриваться. Пристроился писарем к зампотеху по ГСМ, техснабжению и боепитанию. Быстро освоил все писарские премудрости. Научился расписываться в отчетах за зампотеха и командира батальона, стал своим в штабе и благополучно прокантовался до весны 1946 года.
Настала весна, потеплело, зазеленела травка. Мне вновь захотелось на машину. К тому времени в части уже не было ни одной машины на ходу, командованию приходилось выпрашивать машину у соседей, чтобы привезти продукты на кухню.
Помпотех дивизиона договорился о получении на СПАМе (складе старых, отвоевавших машин) несколько машин, чтобы попытаться их восстановить. Для отбора машин взяли водителей, в число которых напросился и я. Мне понравился один «студебеккер», требующий большого ремонта ходовой части, но с хорошим кузовом, кабиной и мотором. Когда приволокли машины в часть, удалось уговорить помпотеха посадить меня на этот «студебеккер» под обязательство подготовить нового писаря.
Больше двух недель я не появлялся в казарме - ночевал в мастерской. С утра до вечера лежал под машиной, пока не привел ее в надлежащее состояние. Так соскучился по машинам! И так надоела казарма! Надо сказать, что этот «студебеккер» служил долго и честно даже после моего увольнения из армии.
С появлением приличной машины прибавилось и много дополнительной работы. В Станиславе еще не был уничтожен частный сектор, а автомашин было мало и часто подворачивалась «левая» работа , чем и пользовались отцы-командиры. Что-то и мне перепадало! Работал много и честно, жил безбедно, денег хватало и на папиросы, и на водку.
К лету 1946 года в связи с коллективизацией активизировалось бандеровское сопротивление. Выезжать в лес и сельскую местность стало опасно. Наш батальон привлекли к борьбе с «бандеровскими бандами» - так тогда называли партизан Западной Украины. За мной был закреплен броневичок БА - 10, входящий в состав охраны командира дивизии, в которую нас к тому времени передали. За лето 1946 года я несколько раз попадал в неприятные ситуации. Поехали однажды рано утром в лес за дровами - несколько солдат с автоматами. Оружия я в машине не возил, пистолет, который всегда был со мной, заставили сдать (кому-то из начальства онб видно, приглянулся!). Заезжаем в село, лежит убитая корова, а над ней ревет хозяйка. Пытаемся выяснить обстановку - «были партизаны, убили корову при перестрелке, и убили сына». Смотрим - действительно, сын лежит в ограде. До сих пор не могу понять - почему она ревела над коровой, а не над убитым сыном? Мне пытались объяснить, что, мол, его забрал к себе Бог, а без коровы - чем оставшихся детей кормить?!
Заехали мы в лес и занялись заготовкой дров. Через некоторое время начался обстрел. Пришлось бросить пилы и отбиваться. Мне, безоружному, делать было нечего, стоял около машины и глазел, пока перерезанная пулеметной очередью верхушка дерева не воткнулась в землю около меня. Партизаны оставили нас, мы нагрузились дровами и уехали благополучно в часть.
В другой раз возвращался поздно вечером из поездки в сопровождении броневика. Совсем близко от города - партизаны меня пропустили, а броневичок встретили мощным оружейно-пулеметным огнем. Повредить не смогли, но окраску испортили основательно. Повезло мне - они подумали, что просто идут две автомашины, а вторая, как обычно, с охраной.
Пошла вторая волна демобилизации из армии. Начали увольнять уже народ, всего на год-два старше меня. Провожали ребят на поезд. Зашли в ресторан на вокзале. У одного отъезжающего трофейный аккордеон и у всех чемоданы. Заказали по стакану водки и выпили. Заиграли на аккордеоне. Заказали по второму стакану. Патрули уже заинтересовались нами. По их рожам вижу, что их интересует аккордеон и чемоданы. Ждут, к чему бы придраться. В это время официантка принесла заказанную водку в граненых стаканах и поставила на стол. Вдруг стакан лопается и водка разливается. Подбегает официантка и начинается выяснение отношений. Патрули нас уже окружают. Соображаем, что дело плохо. Плачу официантке за стакан и за водку. Прошу побыстрее принести. Надежным ребятам тихонько говорю, чтобы брали аккордеон и чемоданы отъезжающих и быстро шли к вагонам. Только выпили, ребята подхватили вещи отъезжающих и устремились к выходу из ресторана, патрули - за ними. У дверей я остановился, пропустил ребят, а сам встал в дверях. Несколько минут они пытались выбить меня из дверей, началась свалка, в этот момент я выкрутил из рук у одного из них автомат. Они дрогнули, но я спокойно отдал автомат его хозяину. Ребята уже ушли к вагонам. Теперь патрули навалились на меня и повели в помещение патрульной службы. Составили акт, отобрали документы, ремень и повели на гарнизонную гауптвахту. Мне были так противны их подлые эмвэдэшные, не нюхавшие пороха рожи, что я решил уйти. Но поторопился - как только вышли на крыльцо, сразу побежал вдоль вокзала. Они начали стрелять по мне, а из дверей вокзала выбежали еще патрули, которых мне удалось сбить с ног. Следующие все-таки сбили меня. Все пошло по второму кругу. Когда вели на гарнизонную гауптвахту, подошли провожавшие ребята и стали предлагать разоружить конвоиров и уйти в часть, но это уже было преступление. У нас хватило благоразумия послать в часть гонцов, чтобы организовать освобождение.
Так и сделали. От имени командира части позвонили и сказали, что мне по тревоге нужно срочно выезжать на броневике в составе охраны командира дивизии. Пришлось вернуть все отобранное и срочно выталкивать меня с гарнизонной гауптвахты. Все кончилось хорошо.
Я слышал, что, если лопаются стаканы с водкой, то это плохая примета. Может быть правду сказал патрульный, что стрелял в меня, но промахнулся?
Появилась возможность получить отпуск и съездить домой в Минусинск. Друзья из штаба быстро оформили бумаги, майор Лебедев подписал, и бравый солдат отправился в свободное плавание, не представляя, какие подводные камни для этого нужно преодолеть. На всех вокзалах шныряют коменданты, которые могут забрать (и посадить!) за грязный подворотничок, нечищеные сапоги, не отданное офицеру приветствие и еще многое другое. Но они не обязаны доставать тебе билеты, сажать в вагон, кормить в пути и вообще ничего не обязаны. Отпуск вместе с дорогой составлял две недели. Первые несколько дней меня, как шелудивого пса, пинали. Я вспомнил, что где-то читал: «собакам и солдатам вход воспрещен». Таких слов написано нигде не было, но дух такой был. Уже через день-два мы, солдаты, сбивались в группы. Доставали ключи от вагонов. Из крупных городов, на вокзалах которых сидели коменданты и дежурили вооруженные патрули, мы выезжали на пригородных поездах до первой остановки магистрального поезда, вагоны поездов дальнего следования брали штурмом. Уговаривали проводников, открывали ключами двери вагонов, набивались в тамбуры - и так далее, с еще множеством уловок продвигались вперед. Последний - самый худший вариант - садились на «500-веселый».
В то время ходили поезда с номерами от 501 до 599 по всем дорогам СССР. Составлены они были из товарных вагонов, обустроенных двойными нарами по торцам вагонов, иногда в середине была печка из бочки, туалет - на остановках или на ходу, через открытую дверь. Женщины и мужчины лежали вповалку. Останавливался такой поезд у каждого столба, а иногда ехал без всяких остановок. В нем царили свободные нравы военных лет. За дорогу сходились, расходились, обворовывались и т.д. Все это я испытал, сделав за 13 дней 13 пересадок. На 14-й день появился в Минусинске, полностью израсходовав свой отпуск.

Солдат на побывке. Женя, Люда, мама, Виктор. Минусинск. 1946 г.
Хотя я заранее сообщил маме о своем отпуске, мой приезд после четырехлетнего отсутствия произвел в женском царстве большой переполох. Я огрубел и отвык от родного дома, отвык о ком-то заботиться, от полуголодной жизни, от каждодневной заботы о хлебе насущном. Мама получала паек хлеба как иждивенка, Люда - как работающая. Вдвоем они получали не больше одного килограмма хлеба… И это все, что было положено от государства. В это время дома была Женя, приехал я. Был огород, где мама выращивала помидоры и огурцы, продавала их, и на это жили. Этим и встречали солдата-победителя. Все, что у меня было, я потратил по дороге. Несмотря на это, у меня и моих родных женщин не было предела радости от встречи! Все женщины и ребятишки нашего переулка ходили на меня смотреть, ведь из всех ребят, живших и бегавших до войны по этому переулку, живым вернулся только я. Женщины плакали. Даже после демобилизации я старался задами возвращаться домой и не проходить по переулку, потому что все женщины, увидев меня, начинали плакать о своих убитых на войне сыновьях. Из ребят, с которыми учился, осталось в живых человек 5-6. В Минусинске увиделся с одним из них. Девочек осталось больше. Некоторые из них учились в институтах. Мама Тани Шишкиной, работавшая в больнице, выписала мне справку о болезни на месяц, чтобы я смог оправдать свое опоздание из отпуска. Мама дала мне денег на обратный путь. Постарался купить какие-то билеты, т.к. транзитных не продавали, и через неделю пустился в обратный путь. Все повторилось вновь - вокзалы, пригородные поезда и тамбуры. Хорошо помню, когда, наконец, попал в вагон поезда, идущего до Станислава, - ни на кого не глядя, бросил вещмешок под лавку, на которой сидели пассажиры, и молча полез туда сам. Проспал несколько часов… Потом пассажиры мне рассказывали, что беспокоились - живой ли я?
От поездки домой у меня сложилось твердое убеждение, что надо как можно скорее кончать никому не нужную службу в армии, ехать домой помогать маме и решать вопрос о дальнейшей учебе. Женя сказала, что может прислать из железнодорожного института справку о моей учебе на первом курсе. По таким справкам отпускали из армии для продолжения учебы. Она достала справку и прислала мне. Я отдал справку в штаб и стал ждать результата. Как-то вез майора Лебедева, он мне сказал, что может отдать меня под суд, т.к. убежден, что я не учусь ни в каком институте. Задал несколько вопросов, на которые не получил толковых ответов. Я ответил, что судить меня не за что, когда было нужно, я честно воевал, а теперь нужно учиться. Он ничего не ответил. Потом до меня дошли слухи о том, что он говорил: «Володина и Бронникова никуда не отпущу, пока командую этим батальоном». (Бронников - водитель, воевавший в полку с начала и до конца. В то время он возил Лебедева на трофейной машине.)
Прошло, наверное, около месяца. Прибегают ребята из штаба и спрашивают, не передумал ли я увольняться из армии. И, если не передумал, чтобы отправлялся за вином. Пошел на кухню, взял чистый бидон и на броневичке отправился за вином и билетами. Билет я получил бесплатный, т.к. с января 1943 по декабрь 1947 года все награжденные орденами и медалями получили документы на право бесплатного проезда один раз в год и ежемесячного получения за медаль десяти рублей и 25 рублей за орден. Это мне позволило без особого труда добраться до Минусинска.
С января 1948 года эти льготы были отменены и частично восстановлены только в шестидесятых годах. Властям отвоевавшие солдаты не были нужны… Приехав в часть с вином, деньгами и билетами, уже никаких препятствий не испытывал. Все документы были готовы, ребята ждали меня с нетерпением за накрытым столом (вернее, за верстаком) в мастерской. Повезли меня на вокзал на бывшем моем «студебеккере». Когда выехали из ворот части, я попросил остановить машину и, стоя в кузове, снял танкошлем и, перекрестившись, сказал: «Не дай мне Бог еще раз сюда попасть!».
С майором Лебедевым не попрощался, т.к. его в части не было. Как я догадываюсь, он в это время куда-то переводился, чем и воспользовались мои штабные прохиндеи. Спасибо им всем - на целый год раньше демобилизовался!
Ехал в плацкартном вагоне, у меня было свое место - что еще нужно солдату?!
В Москве Женя с Витей меня встретили и поместили в своем общежитии. У них уже была заготовлена для меня справка о взятом академическом отпуске. До Минусинска добрался благополучно. До нового 1947 года оставалось несколько дней.
Я отслужил Родине честно почти четыре года. Начался новый этап жизни, новые дела, новые заботы.
Новый 1947 год был отмечен нашей семьей (мама, Люда и я) весьма скромно. Никаких подарков я не привез, денег хватило только, чтобы добраться до Минусинска.
Работала теперь только одна Люда, в ремесленном училище. Преподавала математику и черчение. Мама не работала. После Нового года я начал оформлять документы, необходимые для проживания «цивильному» гражданину. Получил военный билет, паспорт, прописку, хлебную карточку. Только после этого можно было думать о работе.
Что я умел делать и какую работу мог найти в Минусинске? Мог работать водителем на автомобиле практически любой марки, но свободных и исправных автомашин не было. Оставшиеся в живых шоферы старшего поколения демобилизовались раньше меня; приехали, разобрали имевшиеся «развалюхи», восстановили их правдами и неправдами и пытались зарабатывать себе и семье на кусок хлеба. Машин во время войны никто не получал, а наоборот, те, что были, отправляли на фронт, так что в городе их осталось мало, все наперечет. Конечно, в поисках работы я обошел все предприятия, всех знакомых. Но попытки не увенчались успехом. Предлагали брать «развалюху» и пытаться ее восстанавливать. Денег на запчасти у меня не было, знакомых, имеющих доступ к запасным частям, - тоже. Рассматривался вариант устроиться в школу учителем физкультуры или военного дела, но только не в Минусинске и на мизерную зарплату.
Прошел январь, наступил февраль - положение не изменилось. Не смог устроиться даже рабочим, так как промышленных предприятий в нашем городе тогда почти не было. На февраль месяц хлебную карточку не дали - как неработающему. Мама с Людой делили со мной свой хлеб (900 грамм). Наступил март, а я все еще не знал, что мне делать! Готов был затолкать голову в любую «петлю» - лишь бы получить работу. Что все фронтовые дела, по сравнению с этой безысходностью и ощущением собственной ненужности!
Однако великая сила - случай!
Бреду я как-то по городу почти без цели и вдруг встречаю шофера, у которого
проходил стажировку перед войной.
Конечно, начались разговоры о делах и о работе. Я рассказал ему все, как есть, и
спросил, не скажет ли он, где можно устроиться водителем? Я знал, что он большой
проныра и прохиндей, знает все вокруг на 100 километров. Он мне говорит: «ГУШ
ДОР МВД получает «виллис». Иди к начальнику дороги Абакан-Кызыл».
Пришел я к начальнику дороги полковнику Никитину и все ему честно рассказал, и про отца, и про войну. Еще раз мне встретился на жизненном пути замечательный человек. Он сказал мне: «Сын за отца не отвечает!» - и подписал заявление о принятии на работу водителем «виллиса», который он действительно получал для себя как начальник дороги. Слова «сын за отца не отвечает» еще до войны сказал Сталин, но это была только декларация - сыновья по-прежнему отвечали в полной мере. Все это понимали. Полковник Никитин сказал так для маскировки. Возможно, о принятии на работу сына «врага народа» он сообщил начальнику МВД г. Минусинска, своему лучшему другу. Позже мне не раз приходилось возить их вместе.
Теперь все сразу стало на место. Выдали хлебную карточку, стал получать зарплату – 600 рублей. Выдали полушубок, так как кабина у «виллиса» была спроектирована для Африки, а не для Сибири: кроме брезентовой крыши, у него ничего не было.
Конечно, машину пришлось переоборудовать. Хорошо, что в распоряжении полковника были мастерские с местными умельцами. Уже через несколько месяцев машина была хорошо утеплена, оборудована дверками и приобрела приличный вид. Работы было всегда много, я работал, сколько требуется, выходные получал редко. Начальник дороги Абакан-Кызыл (протяженность - 425 км) был обязан содержать дорогу круглый год в хорошем состоянии на всем протяжении, и не только полотно, но и все инженерные сооружения: ограждения, трубы, мосты, паром, карьеры, а кроме того, эксплуатационно-ремонтные дорожные участки, строительную и ремонтную технику. И все это хозяйство растянулось почти на 500 километров.
В разгар ремонтных работ мы рано уезжали, поздно приезжали, неделями вообще пропадали на трассе. Про эту дорогу можно написать поэму - такие красивые места. Но об этом - потом.
Первая интересная работа, в которой мне пришлось участвовать, - пропуск ледохода на реке Енисей. В самом начале дороги, километрах в десяти от Абакана, в Хакасских степях, река Енисей вырывается из Минусинской котловины и Саянской тайги, упирается в скалу и круто поворачивает. В этом месте летом сооружается паромная переправа. Крутой поворот реки с быстрым течением - место заторов во время ледохода. Зима 1946-47 годов выдалась очень холодной, лед на Енисее достигал толщины 1-1,5 метра. Ожидался крупный затор. Взрывать затор -обязанность начальника дороги.
Загрузив 3 тонны аммонала в грузовик, бикфордов шнур и детонаторы в «виллис», мы отправились на переправу. Лед еще был цел, но уже поднялся, и народ переходил на другую сторону Енисея пешком, а через забереги переправлялись на лодках, машины и повозки не пускали. Рабочие пробивали лед. Проруби сделали поперек реки на повороте. Одновременно в них сбросили мешки с аммоналом, детонаторами и подожженными бикфордовыми шнурами. Мешки понесло течением подо льдом. Взрывы глухо прогремели на глубине, тряхнуло лед, но он не сразу тронулся. Образовалось несколько промоин. Так повторяли несколько раз. Наконец, река сдалась, образовалась большая промоина, а выше по течению оторвалась громадная льдина. Ее затащило под лед, она проплыла до промоины подо льдом, вынырнула в промоине и встала вертикально, поднявшись на 10-15 метров над уровнем воды и захватив по ширине почти половину реки. И в таком положении ее протащило еще метров триста. Она двигалась, как ледокол, с шумом ломая лед. Меня поразило грандиозное зрелище противостояния силы воды прочности льда. Такое увидеть мне не пришлось больше ни на одном ледоходе.
Дорога Абакан-Кызыл называлась «Усинским Трактом». Вела она в Тувинскую Народную Республику, которая во время войны была присоединена к Советскому Союзу. Из Тувы в СССР поступало мясо, кожа и шкуры. Туда везли зерно, товары первой необходимости, оборудование.
Итак, мы едем по Усинскому Тракту. Просторы Минусинской котловины сменяются мощной тайгой в предгорьях Саян, затем появляются скалы Саянского Хребта, перевал Токо на высоте 2000 метров, десятикилометровый спуск по «Веселому Косогору»: с одной стороны скала, а с другой - обрыв, аж дух захватывает и, наконец, появляется величественный Енисей и паром. И вот мы въезжаем в город Кызыл, где видим, как коренастые тувинцы, разъезжают на малорослых лохматых лошадках. Между прочим, я ни разу не видел, чтобы тувинцы кормили или поили своих лошадей. Приедет такой всадник на стойбище, снимет узду, пнет коня под зад - и весь уход. Но зато гулять по степи лошадка будет до следующей поездки. Очень выносливые, неприхотливые животные, прекрасно ходят по горам, зимой добывают себе траву из-под снега, живут все время в степи, а морозы бывают за –40 градусов Цельсия.
Качество ремонта дороги полковник проверял своеобразно. Говорил, чтобы я не гнал сильно, а он будет читать. Если не трясет и ему легко читать, значит, ремонт сделан хорошо, а если читать мешает тряска, то предстоял серьезный разговор с мастером участка. Все ремонтные работы от добычи песка и щебня в карьерах до дробления, транспортировки, укладки и уплотнения катками производили рабочие участков. Ремонтировали мосты, водопроводные трубы, ограждения, дорожные знаки. Я ко всему присматривался: узнал технологию ремонта и содержания дорог, устройство дорожного покрытия и методы ремонта, снегоочистку и снегозащиту. Эти знания мне в дальнейшем не один раз пригодились. Полковник Никитин и главный инженер (жаль, забыл его фамилию) относились ко мне хорошо. В поездках заботились о моем питании и ночлеге. Почти всегда заставляли меня есть вместе с ними, да и выпивать тоже. Они быстро убедились, что лишнего я не выпью, знали, что довезу их до дома и, если нужно, на руках отнесу и сдам женам в целости и сохранности.
На работе мне выдали комбинезон и ситец, из которого мама сшила рубашки, что позволило мне не носить постоянно солдатскую форму. Донашивал только фронтовые сапоги. Другой одежды у меня в то время не было.
Мне и Люде, как и всем работающим, «от производства» выделили в разных местах распаханные участки земли для посадки картошки. Мы хорошо ухаживали за насаждениями, и осенью получили большой урожай. На работе мне дали грузовую машину ЗИС-5 грузоподъемностью 3 тонны. Я объехал наши участки и привез полный кузов картошки. Засыпали ее в подполье. Заполнили все пространство. Картошку можно было брать, просто открыв крышку подполья. Теперь мы легко вздохнули: картошки с лихвой хватит на всю зиму. Голодные весна и лето 1947 года для нас закончились. Огород также давал овощи и деньги.
Постоянные поездки по трассе с полковником Никитиным или с главным инженером я не считал большой нагрузкой. Порой даже удивлялся тому, что если надо что-то сделать для машины, решить технические или бытовые проблемы, начальник объясняет или даже помогает. В армии я привык, что командир только «кидает» команду, а как ты ее будешь исполнять - твоя забота и обязанность.
Однако зимой поездки по тракту из красивого вояжа превратились в суровые испытания. Снег на перевалах и в тайге доходил до двух метров. Постоянно на тяжелых участках работали канадские снегоочистители. Машины очень хорошие, но справлялись с трудом. Дорога превращалась в тоннель. Водителям встречных машин приходилось расчищать от снега место для разъезда.
Необходимо немного рассказать о шоферах, работавших в то время на Усинском тракте. Это были «старые волки», проработавшие не один десяток лет. Все они в войну имели «бронь», то есть не воевали, и хорошо зарабатывали. За работу держались, друг друга хорошо знали. Увидеть на трассе стоящую машину и проехать, не предложив помощи, было не принято. Никакие «подрезки» и другое некорректное поведение не допускались. Ты просто мог не вернуться живым из рейса, если не соблюдал их «кодекс». Мне в какой-то мере было легче. Поскольку я возил начальника дороги, меня все знали, но это накладывало и большую ответственность.
Однажды ехали по очень скользкой накатанной зимней дороге. Едешь, как по двум рельсам, малейшая неточность - и вот мой «виллис» вместе с пассажирами в глубоком снегу, за кюветом. Полковник Никитин и его челядь засуетились: быстрей, давай, выезжать, не дай Бог кто-нибудь из проезжающих увидит и всем растреплется, как начальник дороги сидел в кювете. Мигом вытащили машину на дорогу.
Морозы зимой в этих местах крепкие, случается, что температура опускается ниже минус 40, но ветра в это время обычно не бывает. Стоит ясная погода, по утрам туманы и изморось, и еще удивительное явление, о котором я раньше не знал: на перевалах температура воздуха выше, чем в низинах, так как в безветрие холодный воздух опускается с гор в низину. Один раз мне пришлось это испытать на себе. Ехали мы с начальником дороги в Кызыл, прошли все перевалы, уже начали спускаться к городу Турану. Вечерело. Мороз крепчал. Вдруг у машины перестало поступать горючее. До жилья в любую сторону минимум 20 километров, и машин нет. Определил, что замерзло горючее в фильтре. Отрезал шланг от насоса для ручной накачки шин и шунтировал фильтр. Машина завелась, и мы благополучно добрались до города Турана, где располагался строительно-эксплуатационный участок. Решили ночевать, термометры показывали минус 60. Машину пришлось оставить на улице – теплого гаража нет. Воду из двигателя спустил, а аккумулятор снял. Когда я занес в комнату аккумулятор, полковник спросил:
- Что это такое?
- Аккумулятор, - говорю.
- Как ты его снял?
- Руками!
Утром кострами под картером двигателя, мостами и коробкой разогревал машину, а сам двигатель - горячей водой. Казалось, предусмотрел все, но когда заводной ручкой попытался провернуть двигатель, ручка сломалась, как стеклянная. Вызвали кузнеца. Он разжег горн под навесом и взялся было за ремонт ручки, но при первом же ударе молоток рассыпался на кусочки. Кузнец перепугался и начал греть в горне весь инструмент. Выехали мы из Турана только к обеду. Температура минус 60, очень суровая...
Прошла зима. Теперь инспекционные поездки по Саянам с руководством Усинского тракта проходили при ласковой весенней погоде и опять доставляли удовольствие. Полковник Никитин привык ко мне, доверял во всем и относился, как к своему сыну. Я платил ему тем же.
Все складывалось как будто неплохо, однако оставаться водителем на всю жизнь я не хотел. Все время пытался найти возможность учиться, но двери любого приличного института для меня, сына «врага народа», были закрыты. Да и пять лет шоферской жизни знаний мне не прибавили.
Однажды в гости пришли родственники маминой подружки тети Кати, которые рассказали про Норильск, где они жили, о норильском техникуме, в котором платят хорошую стипендию до 600 рублей и выдают за небольшую плату форму. Я их расспросил подробно, взял адрес техникума и послал запрос об условиях поступления и возможности приема. Скоро пришел положительный ответ. Я собрал необходимые документы, послал, и вскоре получил справку о зачислении на второй курс электромеханического отделения Норильского горнометаллургического Tехникума (НГМT) и пропуск для проезда в Норильск. В это время демобилизовался Володя Нилов, и с удовольствием присоединился и тоже получил документы о принятии в техникум. Билеты на пароход мы купили заранее и начали собираться.
Полковник Никитин был огорчен моим уходом, но, узнав, что я поступаю в техникум, одобрил мое решение и при увольнении премировал должностным окладом в 600 рублей.
Перед отъездом я пошел попрощаться со своим крестным отцом Всеволодом Николаевичем Барковым, который в 1943 году был освобожден из лагерей и вернулся в Минусинск, где и получил приход. Акция освобождения священников была проведена советским правительством под давлением США и Англии, жители которых считали невозможным помогать по ленд-лизу стране с населением, не верующим в Бога. Наши церкви тогда молились Богу о даровании победы и собирали большие деньги в счет обороны.
С отцом Всеволодом у нас были доверительные отношения с 1946 года, когда, во время моей побывки, «за рюмкой чая» мы о многом поговорили. Теперь он благословил мое решение ехать учиться и дал триста рублей (трешками). Эту помощь вспоминаю с благодарностью всю жизнь.
Мама с Людой собрали мне на дорогу продукты и, конечно, дали денег. Одет я был в кирзовые сапоги, брюки из трофейного сукна, гимнастерку и телогрейку. Из «цивильного» имел две ситцевые рубашки, сшитые мамой из материала, полученного мною на работе. Все это вошло в чемодан, сделанный мной в армии при подготовке к демобилизации.
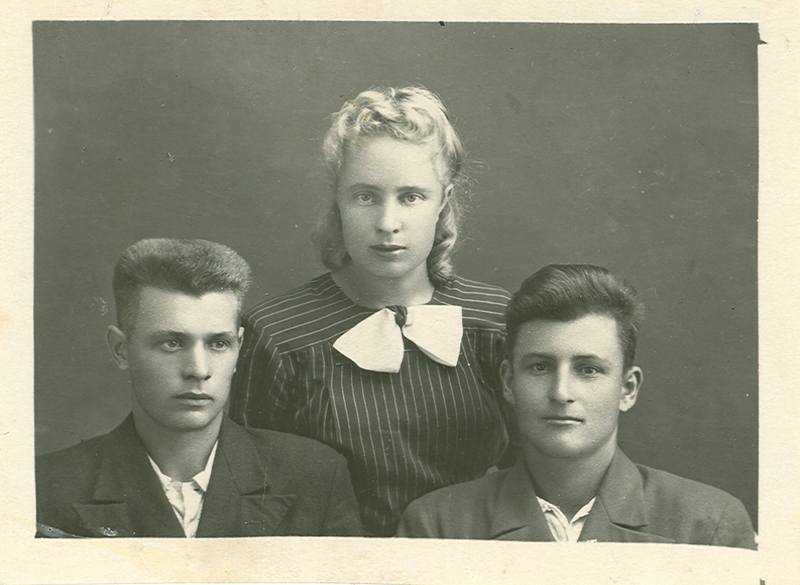
Виктор Володин, Люда Володина, Володя Нилов. Минусинск. 3 августа 1948 г.
До Красноярска ехали с Володей поездом, затем погрузились на пароход «Иосиф Сталин» и двинулись вниз по Енисею. Просторы сибирской тайги, красоты порогов Енисея, бескрайняя тундра, незаходящее солнце волновали мало, хотя все это видел впервые. Надо признаться, что во второй раз всем этим удалось полюбоваться только однажды.
Путешествие продолжалось трое суток. С длительными остановками, погрузкой дров и тому подобное. В Дудинку прибыли вечером, и ночью по узкоколейке в товарном вагоне, преодолев последние 100 км, оказались в Норильске, на нулевом пикете. Это было 18 августа 1948 года.
До техникума добрались пешком. Там нас приняли и сразу поместили в общежитие. Техникум тогда размещался в старом двухэтажном здании на улице Октябрьской. Рядом с учебным корпусом, в сторону оз.Долгого, были два здания общежитий: одно - мужское, другое – женское. На бугорке за зданиями техникума и общежитий располагались мужские и женские не отапливаемые и продуваемые пургой туалеты.
Через пару дней нас стали вызывать в мандатную комиссию, состоящую из преподавателей, представителей комбината и первого отдела. Вызвали и меня. Не искушенный в различных жизненных переделках я, как был в сшитой мамой ситцевой рубашке, так и пошел на комиссию. Естественно, разговора об отце избежать не удалось. Рассказал, все как есть. Конечно, сразу ничего не сказали. Позже меня вызвала секретарь и сообщила, что я не прошел мандатную комиссию и в техникум не зачислен. Удар ниже пояса, которого я не ожидал. Пришел к ней в полной растерянности, не зная, что делать. В Норильске никого не знаю, куда обращаться - тоже.
Однако судьба или случай и на этот раз распорядились по-своему.
Секретарь техникума, на мое счастье, имела фамилию «Володина». Еще посылая документы в Минусинск, она написала полностью свою фамилию, а уже в Норильске, общаясь по разным вопросам, мы ощущали какое-то родство. Видимо поэтому она приняла самое горячее участие в моих делах. Она, конечно, знала все возможные ходы, а самое главное людей, которые могли решить этот вопрос. Подробностей я не знаю, но она через секретаря договорилась об аудиенции у заместителя директора комбината по кадрам полковника Белабердина. К этому моменту я уже многое понял. Надел галифе, гимнастерку, награды, начистил сапоги. Ребята дали мне офицерский ремень, я причесался и отправился к Белабердину. Опять возник вопрос об отце. Я честно признался, что не знаю, где отец и что с ним. Сказал про единственное мое желание - учиться. Белабердин ничего не обещал.
Дня два-три меня никуда не вызывали и ничего не говорили. Что будет, я не знал. Но в это время у меня вдруг возникло интересное ощущение. Вышел как-то вечером на улицу. Был конец августа, уже ненадолго темнело. Посмотрел на горы: там огни, посмотрел на все вокруг и почувствовал, что все здесь основательно и надежно, и я буду здесь жить долго. Просто почувствовал, но говорить, думать и верить в это не мог.
Наконец, меня снова вызвали на мандатную комиссию. Теперь я оделся, как надо, взял все документы. Вопросы задавали те же, что и в первый раз, только сделали вид, что не поняли, и спросили:
- Так Вы, оказывается, воевали?
- Да, воевал, - ответил я.
Больше никаких вопросов не возникло, и меня зачислили в техникум на второй курс электромеханического отделения.
Первого сентября 1948 года я снова сел за парту. Мне было уже 23 года. С перерывом в 6 лет я начал учиться вновь. Но это уже совсем другая история...
г. Обнинск
Июнь 2005 года.
КОНЕЦ ПЕРВОЙ ЧАСТИ
В марте 1953 года умер И.Сталин. После ареста и расстрела Л.Берии, с весны 1954 года, очень осторожно, медленно и непривычно приступили к реабилитации невинно осужденных в тридцатые годы.
Мы c женой Ториной той осенью поехали из Норильска в свой первый рабочий отпуск. Остановились в Москве, у Торининой тети, Марии Осиповны, на Арбате. Напротив размещались (и сейчас размещаются) ресторан «Прага» и юридическая консультация. К этому времени я уже достаточно получил пинков и унижений за арестованного и «находящегося неизвестно где» отца. И было непросто снова пойти в эту юридическую консультацию с единственным вопросом: «Что делать? Помогите!». Но я все-таки решился. Мне ответили: «Помочь не беремся. Денег ваших не возьмем. Советуем написать заявление в Прокуратуру СССР (Москва, Центр, Пушкинская, 15 А)».
Я написал, кто я такой, что воевал, награжден, считаю отца не способным совершить преступление против Родины. Принес Заявление в Прокуратуру и хотел сдать под расписку. Не принимают, говорят: «Опускайте». Здоровенный почтовый ящик стоял тут же. Сомневаюсь, считаю, что затеряется. Меня убеждают: «У нас ничего не теряется!». Что делать? Бросил!
Это было в сентябре 1954 года.
Через несколько дней после возвращения из отпуска в Норильск, получаем из Прокуратуры СССР уведомление о том, что моя жалоба рассматривается (письмо №13/7 – 24256 – 54 от 23.10.1954 г.). Через пять месяцев пришло сообщение о том, что 23 марта 1955 года Верховный суд СССР по протесту Прокуратуры СССР дело в отношении Володина Андрея Ивановича прекратил за недоказанностью обвинения (№13 ок /24256-54 от 24.03.1955 г.). Не прошло и месяца, как по нашему адресу пришло письмо, в котором была справка, выданная Володину Андрею Ивановичу, 1892 года рождения в том, что определением судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда СССР от 23 марта 1955 года Постановление особого совещания при НКВД СССР от 2 сентября 1938 года в отношении его отменено и дело производством прекращено за недоказанностью предъявленного обвинения (№02 – 1572 – С – 55 от 18.04.1955 г.)
Если через семь месяцев после подачи первого и единственного заявления пришла справка о том, что отец невиновен и Постановление особого совещания отменено, то на вопросы: Где он? Что с ним? – никаких ответов не поступало. Надо признаться, что мне больше вопросов об отце не задавали, - и он, и я стали хорошими. Меня приняли в партию и без вопросов назначали на руководящие должности. В то время я многого не знал, но понимал, что лучше нигде об отце не говорить и не напоминать. Время не пришло. Женин муж (Абросимов Виктор Николаевич) пытался писать в разные инстанции, но толкового ответа так и не добился.
Сейчас из публикаций (Юрий Стецовский «История советских репрессий», т.2, стр. 335) я знаю, что 24 августа 1955 года с одобрения ЦК КПСС и по согласованию с Прокуратурой СССР председатель КГБ И.Серов подписал совершенно секретное разъяснение о том, как отвечать на запросы о судьбе расстрелянных – «приговорены к 10 годам ИТЛ без права переписки; умерли в местах заключения (перечень рекомендуемых болезней прилагался).
В декабре 1959 года сестре Жене прислали справку о том, что гражданин Володин Андрей Иванович, 1892 года рождения находился в местах заключения до 21.10.43 года. Справка выдана для предъявления в органы социального обеспечения. Никакого социального обеспечения мама не получала и никуда не обращалась за этим. Только Постановлением №П – 82/х х х от 15 февраля 1963 года президиум ЦК КПСС внес некоторые коррективы в этот лживый порядок заметания следов и количества расстрелянных.
Прошло много лет. Я жил и работал в Норильске. Закончил техникум, потом институт. Влюбился, женился, родилась дочь. Весной 1987 года переехал в Обнинск, там работал до февраля 2002 года. За это время появились внуки, правнучки... Жизнь движется к естественному концу.
Я долго откладывал ознакомление с делом отца, чувствуя, что на это не хватает сил. Только после того, когда мне исполнилось 77 лет, перестав работать, понял – пришло время попытаться узнать правду о судьбе своего отца.
Собрал все необходимые документы и в апреле 2003 года поехал в Москву в Генеральную прокуратуру Российской Федерации (ул. Б.Дмитровка, 15 А) с заявлением следующего содержания:
В прокуратуру РФ
От Володина Виктора Андреевича
1925 года рождения, участника ВОВ
Мой отец, Володин Андрей Иванович, 1892 года рождения, проживавший в 1938
году вместе с семьей в г.Минусинске Красноярского края, 3 марта 1938 года
арестован. С этого времени (с 13 лет) и до 1956 года я подвергался моральному
притеснению и существенным ущемлениям основных прав.
В 1955 году по моей жалобе дело отца Верховным судом СССР было отменено и
производством прекращено за недоказательностью предъявляемых обвинений (см.
приложение).
В справке УКГБ по Красноярскому краю указано, что мой отец Володин Андрей
Иванович с 03.03.38 года по 21.10.43 года находился в заключении. О последующей
его судьбе ничего не сообщено.
Убедительно прошу Вас:
1. Признать меня, Володина Виктора Андреевича, 1925 года рождения, сына Володина
Андрея Ивановича реабилитированного Верховным судом СССР репрессированным по
политическим мотивам и выдать мне соответствующее удостоверение.
2. Сообщить мне, что произошло с моим отцом после 21.10.43 года.
3. Предоставить мне возможность ознакомиться с делом моего отца Володина Андрея
Ивановича, 1892 года рождения, арестованного в г.Минусинске Красноярского края
03.03.1938 года.
Приложение (копии следующих документов):
1. Свидетельство о рождении Володина Виктора Андреевича;
2. Ответ прокуратуры СССР от 23.11.54 №13/7 – 24256 - 54
3. Ответ прокуратуры СССР от 24.03.55 № 13/10 – 24256 - 54
4. Справка Верховного суда СССР от 18.04.55 №02-1572-с.55
5. Справка КГБ по Красноярскому краю от 21.12.59 № 13/п – 8750
С уважением В. Володин
Прием заявлений и документов происходил организованно, без большой очереди в отдельном кабинете дежурным прокурором. Копии документов сверяли с подлинниками, заверяли, подлинники возвращали.
В мае 2003 года Генеральная прокуратура РФ письмом №13-24256 – 54 от 15.05.03 уведомила меня в том, что все документы направлены в прокуратуру Красноярского края с соответствующими указаниями. В начале июля из прокуратуры Красноярского края письмом №13-1190-94 от 03.06.2003 г. получил справку о моей реабилитации, в которой впервые написано, что отец по постановлению Особого совещания при НКВД СССР от 2 сентября 1938 года по политическим мотивам подвергнут расстрелу. Через несколько дней пришло письмо из регионального Управления ФСБ РФ по Красноярскому краю (№10\Д – 11 от 16.06.03), в котором, кроме известных мне сведений, сообщалось:
1. Расстрел отца приведен в исполнение 2 октября 1938 года в г.Минусинске.
2. Сведений о месте захоронения в архиве уголовного дела нет.
3. Смерть зарегистрирована в отделе ЗАГС администрации г. Минусинска актовой
записью 18 декабря 1959 года.
4. На день ареста имел следующий состав семьи: жена – Мария Дмитриевна, 40 лет;
дочь – Людмила, 18 лет; дочь Евгения, 15 лет; сын – Виктор, 13 лет (возраст Люды
указан неправильно - ей на момент ареста было 17).
5. Архивное уголовное дело по обвинению отца направлено в отдел Управления ФСБ
РФ г. Обнинска, куда я буду приглашен для ознакомления.
Через несколько дней позвонили из ФСБ и пригласили на ознакомление с делом отца. Не мешкая, сразу пошел в ФСБ. Там меня уже ждали. Завели в отдельный кабинет, письменно предупредили о запрещении ведения записей и изъятии документов. В кабинете стояли два отдельных стола, стулья и ничего лишнего. Принесли дело отца и дали мне. Представитель ФСБ сел за соседний стол, откуда и наблюдал за моими действиями. Простая картонная папочка, изготовления тридцатых годов прошлого столетия.
Документ первый.
Первым в деле подшит протокол допроса, написан чернилами, грамотно, хорошим
почерком. Даты на протоколе не нашел.
Отец обвинялся в шппионской деятельности за то, что он почтой в письме какому-то
китайцу (имя приводится) сообщил о наличии в стране недовольных коллективизацией
и в контрреволюционной деятельности за то, что он вел беседы с бухгалтером
пивзавода Топорковым о неправильных действиях Советской власти в 1929-30 годах.
Все листы протокола допроса подписаны отцом. Подпись твердая, разборчивая.
Документ второй.
Написан на обрывке, наверное, оберточной бумаги, карандашом, безграмотным стилем
и почерком. Без подписи и даты. В нем говорится, что отец уехал из села
Кочергино, дабы не отдавать в колхоз имеющиеся у него сеялку и сепаратор.
Документ третий.
Напечатанное на машинке решение комиссии НКВД и Прокурора СССР от 2 сентября
1938 года о назначении Володину А.И. высшей меры наказания – расстрела. Подписи
не расшифрованы.
Документ четвертый.
Напечатанная на обратной стороне товарной накладной справка о приведении
приговора (расстрела) в исполнение 2 октября 1938 года. Подпись неразборчивая и
нерасшифрованная.
Документ пятый.
Мое заявление (жалоба) в Прокуратуру СССР, написанное в 1954 году.
Документ шестой.
Ответ из Минусинска на запрос Прокуратуры СССР о том, что на пивзаводе в это
время никакой Топорков бухгалтером не работал.
Документ седьмой.
Сообщение из Прокуратуры СССР от 24 марта 1955 года №13 ОК /24256-54 о
прекращении дела Володина А.И. за недоказанностью обвинения.
Документ восьмой.
Справка из Верховного суда СССР от 18 апреля 1955 года «02-1572-С-55 выдана
Володину А.И. об отмене Постановления Особого совещания при НКВД СССР от 2
сентября 1938 года и прекращении дела за недоказанностью предъявленных
обвинений.
Документ девятый.
Заявление, написанное Женей (или Витей Абросимовым) в прокуратуру с просьбой
сообщить о местонахождении и судьбе отца - Володина А.И.
Документ десятый.
Справка УКГБ по Красноярскому краю от 21 декабря 1959 года №13/П-8750 о том, что
Володин А.И. находился в местах заключения с 3 марта 1938 года по 21 декабря
1943 года.
Прошу учесть, что все это я пишу по памяти, и простить за возможные неточности.
Мое состояние после ознакомления с делом отца описать невозможно. Мне казалось, что после всего того, что я пережил в жизни, мне все по плечу. Однако я здорово переоценил свои возможности.
Наблюдавший за мной представитель ФСБ спросил: «Действительно ли эти подписи
принадлежат вашему отцу?» Я твердо ответил: «Да, действительно. Я хорошо помню,
как он расписывался. На его месте я тоже бы все это подписал!».
В свою очередь я спросил: «Почему запрещается делать записи?»
Он ответил, чтобы не было возможности мстить исполнителям и участникам.
Я усмехнулся: «Кому мстить? Половина из них не миновала той же участи».
Сейчас, по истечению многих лет, после встреч с большим количеством заключенных,
отбывших срок, и освобожденных, прошедших различные лагеря, ознакомившись с
делом отца, сопоставляя факты и документы, могу предположить, как развивались
события.
Протокол допроса в деле был не первым. Первые протоколы отец не подписывал. Ему дали освоиться с арестом и обдумать свое положение, убедиться, что из тюрьмы никто не выходит. Объяснили, что к родственникам упирающихся применяют репрессивные меры. У него появилась надежда, что, чем нелепее обвинение, тем больше вероятность в отмене приговора в дальнейшем. В это время Люде было почти 18 лет, Жене – 16, мне – 13. В таком возрасте уже могли посадить. Обвинение могло быть простым – знал что-то и не сказал. О маме и вопроса не было – могли посадить или сослать в любое время. Следователь хорошо ему объяснил, что со всеми нами будет, так как план по выявлению шпионов и контрреволюционеров ему нужно было выполнять. Отец пошел на сговор со следователем, и, возможно, сам предложил ему формулировки своей «шпионской» и «контрреволюционной» деятельности. Вполне допускаю, что даже не предполагал, что за это могут дать высшую меру.
Следователь дал возможность отцу написать и передать записку, а также
получить передачу. Он, может быть, знал, а может и не предполагал, что за такой
«шпионаж» и «контрреволюционную» деятельность тройка даст высшую меру –
расстрел, а не десять лет. Но в 1938 году была налажена работа машины репрессий:
3 марта – арест; через 6 месяцев – 2 сентября – приговор; через месяц –
расстрел.
Все по плану.
г. Обнинск
Апрель, 2006
Оригинал:
![]() vva1925
vva1925