












Илмар Кнагис. Такие были времена
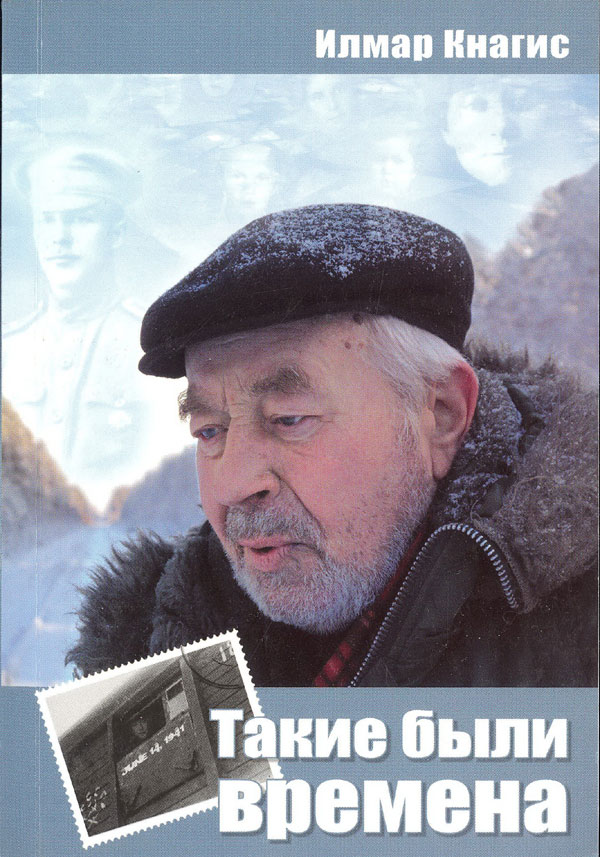
УДК 94(474.3) К 53
Илмар Кнагис ТАКИЕ БЫЛИ ВРЕМЕНА
Ответственный за издание: Дзинтра Гека
Перевод: Жанна Эзите
Редактирование и корректура: Жанна Эзите
Фото: Дзинтра Гека и из личного архива Илмара Кнагиса
Дизайн и верстка Ванда
Войциша
Выражаем благодарность за содействие в публикации книги: Южно-Калифорнийскому
отделению организации «Латвияс Ванаги» в США Теодору Лилиенштейнсу Айвару
Еруманису
Центравлему правлению организации «Даугавас Ванаги»
Публикатор: Фонд "Sibirilas bёrni"
Отпечатано siа TALSU TIPOGRÄFIJA
© Илмар Кнагис, 2010
© Фонд "Sibirilas bёrni" 2010
©Дзинтра Гека, 2010
©Жанна Эзите,
2010
ISBN 978-9984-49-017-5
«Приключения везучего человека» - такой подзаголовок дал автор своему повествованию о жизни. Воистину невероятное везение - пережить две ссылки, годами ходить как по лезвию ножа между жизнью и смертью, встретить на своем пути множество людей с такими несхожими судьбами, опираясь на свой ни с чем не сравнимый опыт, выработать собственное мировоззрение, создать семью и вернуться на родину обогащенным, богаче, чем был, когда высылали. Но это только начало.
Илмару Кнагису суждено было не только дождаться Атмоды и восстановления независимости, способствуя этому, отдавая весь свой опыт, силы и время, но и взять на себя еще одну трудную задачу - не дать исчезнуть из памяти тому, что об империи зла должны знать будущие поколения и весь мир. Собранные факты и воспоминания вскрыли такие размеры и методы преступлений советского режима, о которых большая часть общества даже не подозревала. Говорить от имени тех, кто уже никогда ничего не расскажет, - долг и честь оставшихся в живых.
Лишь немногим хватило сил и здоровья, немногим выпала удача еще раз побывать там, где когда-то страдал ты сам, твои близкие и еще тысячи тысяч других. Именно там, за Полярным кругом, устанавливая кресты погибшим в Агапитово, Вятлаге, Соликамске гражданам Латвии, Илмар Кнагис пережил свой «звездный час». «Замерзал - не замерз, тонул - не утонул, медведи меня не съели, то, что хотел, я сделал и всегда в трудную минуту ощущал поддержку хороших людей», - говорит автор.
Живая историческая память в духовной сокровищнице народа ни с чем не сопоставима. Никакое другое поколение не имело такого опыта, не имело примеров такой веры, надежды и любви. И сегодня не легко найти и обнародовать правду о недавней эпохе лжи - мир так быстро все забывает и живет иллюзией о себе самом, ибо так удобней. А зло только того и ждет. Оно множится во тьме, но исчезает в свете правды. Недаром сквозь все века звучат слова песнопевца Давида: «Блаженны то, кто идет праведным путем, и поступает по правде всегда».
Анда Лице
Благодарю всех, кто оказал мне поддержку в работе над этой книгой: товарищей по общей судьбе Маргариту Сидере и Владимира Нестерова, соученицу Скайдрите Тинтс, поэтессу Анду Лице, писательницу Луцию Кюзане, Юрия Сайварса, всех, кто помогал мне советом, делился крупицами воспоминаний, не скупился на добрые слова.
Спасибо Латышскому фонду за финансовую помощь при издании этой книги.
Чтобы сердце успокоилось и наивно поверило, что через 100 лет некий
исследователь, нанизывая в логичной последовательности мгновения жизни
нынешней и недавнего прошлого, захочет создать связную историю времен и событий,
каждый должен обязать себя написать воспоминания. Свою версию жизни. В
противном случае десяток-другой версий людей самых усердных и умных послужат
аргументом для бесстрастных историков будущего. И снова это будет история
избранных. Как было испокон веков.
Гундега Репше
Лето 1983 года. Мы летим через полуостров Таймыр. Под нами таинственные, нетронутые цивилизацией и почти не-хоженые туристами места - Путоранское плоскогорье, озера, реки, ледники, водопады которого ждут нас, водных туристов из Латвии.
Я был счастлив. Счастлив, как любой турист, когда позади поезда и самолеты, многолюдные шумные вокзалы и перроны, тяжесть рюкзаков и не вписывающегося ни в какие габариты снаряжения водных туристов, веселые, но и чреватые неприятностями попытки схитрить при взвешивании багажа (ибо какой же уважающий себя турист не считает святой обязанностью хоть на пару килограммов обмануть Аэрофлот). Позади беготня по магазинам за последними необходимыми вещами и оформление документов, что было совсем непросто, так как отправлялись мы в места, хранившие множество тайн и зачастую недоступные простым смертным. Все осталось позади. Впереди нас ждал маршрут протяженностью почти полтысячи километров по рекам и озерам Путорана, самого необжитого региона на земле.
Я смотрел в иллюминатор и вспоминал далекие-далекие минувшие времена. Много ли можно вспомнить за час полета? Очень много. Всю жизнь. Там, на юге, где земля сливается с серыми небесами, у подножья гор Путорана закончилось мое детство и началась юность. Всего несколько сот километров отделяли меня от тех мест. Совсем недалеко отсюда Агапитово - «Остров смерти», где погибли сотни женщин и детей. Чуть дальше система рек и озер, которые когда-то я исходил вдоль и поперек - на лодке летом, на лыжах зимой. Остяцкое, Щучье, Тунгуска, Плахино, Сопочка, таинственные, с трудом найденные Чумные озера. Пять поставленных мною изб, лодки, которые я смастерил. Дальше на юг Игарка, место моей второй ссылки, и заброшенная, поглощенная болотистой тундрой последняя сталинская стройка, Великая Трансполярная железнодорожная магистраль - «Мертвая дорога». Мое отрочество, моя юность.
Тень вертолета скользит по раскинувшейся далеко внизу поверхности озера Лама. Какие тайны, какие следы преступлений хранят его глубины?! Во время войны в озере как будто бы была затоплена баржа с опасными политическими «преступниками». Возможно, это лишь легенда, но вспоминали ее многие, даже сейчас, за несколько дней до вылета нашего вертолета с базы в Вальке. Ходили разговоры и о массовом уничтожении заключенных, которых сбрасывали в ущелья Путоран и там просто засыпали, взрывом. Тот, кто знает плато Путорана и вообще Таймыр, понимает, что регион этот идеальное место для уничтожения без следа тысяч, а если потребуется, то и миллионов людей. А потребность в этом в России возникала не однажды.
Меня уже тогда, в юности, влекли загадочное плато Путорана, или Хантайские горы, как мы их тогда называли. Охотясь, я не раз добирался до самой южной границы гор. Никакого постепенного перехода равнины в гористую местность не было. Горы начинались внезапно. Они вставали передо мной почти вертикально, как в «Затерянном мире» Конан Дойла. Теперь-то я знаю, что это были лишь «передовые посты» Путорана, как бы острова гор, отломившиеся частицы, заброшенные в тундру и болота. С этих окутанных тайной гор стекали реки с экзотическими названиями - Кулюмба, Горбиачин, Хантайка.
И вновь, вот уже в третий раз, я на севере. На сей раз, правда, по собственному желанию: за Полярный круг привели меня туристские тропы и необъяснимая ностальгия по северу, а не приговор «рыцарей революции» - чекистов, как в 1941 и 1949 годах.
Как назвать чувства, которые заставляют человека, прожившего какое-то время на севере, снова и снова туда возвращаться, возможно, не каждого, но многих? Вряд ли можно сравнить с любовью то, что испытывает человек к тем местам, где провел самые тяжкие годы своей жизни. Где замерзал, голодал, где испытывал отчаяние и подвергался унижениям, где терял друзей и сам не однажды заглядывал в глаза смерти. Все это было в далекой, чужой и враждебной стране. Но была и юность, было завораживающее северное сияние, штормовой Енисей, романтика оленьих и собачьих упряжек, была и дружба, и первая любовь тоже была.
Вертолет высадил нас высоко в горах, на берегу кое-где свободного ото льда озера Негу-Икэн. Вокруг одни камни и цветы. Потом мы плыли вдоль поросших фиолетовыми цветами озерных берегов, преодолевали ледники, шли по покрытой вечными снегами равнине, наконец редкой красоты, почти непреодолимая река Негу-Икэн, незабываемая Колтамы с ее сорока захватывающими дух порогами, горный хрусталь в разломах скал, берега, усыпанные обглоданными оленьими костями вперемешку с медвежьими погадками и следами, могучие пороги и водовороты реки Аян. И вот Хета, возникшая при слиянии рек Аян и Аякли, выносит нас из Путоранских гор. Река растекается по равнине, как море, и начинается однообразно- утомительное путешествие, когда изо дня в день только и остается, что копать веслами спокойные, необозримые воды Хеты и рассказывать спутникам о том, что было пережито в этих краях много лет назад.
Это путешествие было как бы возвращением в прошлое, возвращением в юность. Близость исхоженных в юности мест, те же дикие, первобытные условия - все это всколыхнуло в глубинах памяти, казалось, давно позабытое. На самом деле я ничего не забыл, только чувство было такое, что многое происходило как будто не со мной, а в увиденном бог знает когда фильме. Слишком давно все это со мною случилось, слишком невероятным казалось. Невероятным? Но что в том невероятного? Тысячи и тысячи пережили нечто подобное, если не более страшное и тяжкое. А во всем Советском Союзе десятки миллионов. Но события тех лет не кажутся нереальными только потому, что психика поколений того времени так изнасилована и изуродована, что вещи и события, каких не знала история и которые следующие поколения - поколения нормальных людей - будут считать немыслимыми и непонятными, сегодня считаются как бы сами собой разумеющимися и нормальными. Ну что особенного?! Такие были времена...
Как же все тогда произошло? Как начался самый мрачный период в жизни десятков тысяч жителей Латвии, самые мрачные страницы в истории латышского народа? Кто-то из юмористов сказал: «Была прекрасная «Варфоломеевская ночь»!»
Была ночь 14 июня 1941 года. Варфоломеевская ночь латышского народа. Тогда и начались мои «захватывающие» приключения.

Мчался латыш далеко на чужбину
На статном жеребце,
Земля гудела...
Старинная песня ссыльных латышей
Короткая июньская ночь была на исходе. Уже светало, когда в дверь позвонили. Звонок показался необычно громким. Вероятно, потому, что прозвенел неожиданно и непривычно. Разве звонили нам ночью? Потом раздался нетерпеливый громкий стук.
Их было трое - тех, кому отец открыл дверь. На главном был серо-коричневый реглан, слишком теплый для лета. Это был латыш, мне кажется - из российских латышей, из тех, кому удалось избежать кровавой расправы с латышами в России в 1937 году. Сколько же надо было предать своих соотечественников, чтобы самому остаться в живых? Правда, в то время об этих событиях я еще ничего не знал. Второй был милиционер, кажется, из Екабпилса, но незнакомый. В таком маленьком городишке милиционеров знали всех наперечет. Фамилия его была Загерис. Сын Анны. Помню, как сказал он это «реглану» для занесения в протокол. Третий был офицер советской армии. Армейский, не из НКВД. Фуражки у последних были с синим верхом. Значит, и армия была привлечена к проведению арестов.
Отцу велели сесть, положить руки на стол. Так он и просидел, пока мы с мамой собирали вещи. «Реглан» допрашивал отца и что-то записывал. Говорил грубо, вызывающе. Он, по всей видимости, был из тех, кому подобные операции доставляли наслаждение. Упивался сознанием собственной власти. Его лицо и голос я еще долго помнил. Милиционер, выполняя его указание, рылся в шкафу в поисках оружия.
Офицер присутствовал только в самом начале, потом вышел, но вскоре вернулся на грузовике, где уже сидел бывший начальник Екабпилсского военного округа капитан Язеп Брокс с женой и дочерью, моей одноклассницей.
На сборы нам отвели ровно час. Когда мы кидали в автомашину чемоданы и узлы из скатертей и одеял с собранными в спешке вещами, офицер забросил в машину и две пары лыж, стоявших в прихожей, сказав, мол, в Сибири они мне пригодятся. Закинул он в машину и кое-какую одежду, отцовский полушубок и корзину с грязным бельем, стоявшую там же в прихожей. Эти вещи и содержимое бельевой корзины спасли нас в первую зиму не только от холода, но и от голода.
Помню (вернее, помнила мама, потому что я по-русски не понимал), офицер сказал еще, что здесь фронтовая полоса и нас высылают как опасный элемент.
По дороге к нам в машину подсадили семьи богатых торговцев евреев - семью Ландманов и две семьи Друков. В каждой было по двое детей в возрасте 5-7 лет.
Всходило солнце, кода мы переезжали мост через Даугаву. И теперь, когда мне снова случается проезжать в Екабпилсе по мосту, я всегда вспоминаю то утро.
На станции Крустпилс мужчин увели. Помню все, будто это случилось вчера. Это одно из тех мгновений, которые остаются в памяти на всю жизнь. Мужчины шагали навстречу солнцу, по-военному печатая шаг, три старых латышских стрелка - Эмиль Кнагис, Язеп Брокс и Ансис Потцепс. Шагали, расправив плечи и высоко подняв голову. Следом за ними семенили два солдатика с раскосыми глазами, держа винтовки с примкнутым штыком под мышкой. С затуманенными глазами я смотрел в спину уходящему отцу и сжимал в кулаке только что врученный им французский перочинный ножик, который еще хранил тепло отцовской ладони. Силуэт отца растворился вдали - в переплетении рельсов и солнечных лучей. Исчез на вечные времена.
А перед нами раскрылись двери большого телячьего вагона - «пульмановского». В темном пустом вагоне на маленьком чемоданчике у самых дверей сидела растрепанная и рыдающая красивая молодая женщина с плачущей девочкой на руках. Аустра Путеле с дочерью Смайдой. В одиночестве они провели в темном вагоне несколько часов. Разве ж только одно это не могло довести человека до сумасшествия? Все их имущество состояло из маленького чемоданчика и корзинки.
Это был четырехосный телячий вагон, на скорую руку переделанный под спецоперацию. Нары в два этажа, напротив двери «оправка» - дырка в полу и наклонная доска над ней. Никакого ограждения не было, чуть позже мы сами завесили это место простынями и скатертями. По одну строну вагона два маленьких зарешеченных окошка. В другом конце окна были закрыты. В вагоне нас собралось человек 70. Было много стариков и маленьких детей, трое или четверо грудные младенцы.
Вскоре возле вагонов начали собираться люди. Родные, близкие. Пришел и брат моего отца Альберт с женой. Думается, многие из пришедших провожать нас по законам того времени тоже должны были находиться в таких же зарешеченных вагонах, но, очевидно, вагонов было не так много, сразу всех им было не вывезти.
Благодаря содействию нашего родственника Яниса Круминьша, который работал в райисполкоме и был членом компартии, Альберту удалось вывести из вагона бабушку. Сейчас она покоится где-то в Германии. Дядя с семьей и бабушка уехали на Запад, когда немцы отступали. А что было делать? Оставаться и спокойно ждать русских? Ждать ареста, Сибири? Их бы туда отправили сразу же вслед за нами, если бы не война. Без сомнения, вторжение немцев в Латвию спасло от депортации в Сибирь не одну тысячу человек. Дядя Альберт умер в Англии в восьмидесятые годы, так и не приняв гражданства другой страны.
В вагоне было жарко, душно. Пахло потом, детскими пеленками, отхожим местом, одеколоном и невесть чем еще.
Наш состав загнали на какую-то железнодорожную ветку недалеко от станции. Под окнами стояли охранники, вооруженные винтовками со штыками. Они разрешили нам взять кое-что у провожающих. Наш вохровец иной раз и сам подавал сверток через окошко, пока от удара об решетку не разбилась банка с вишневым вареньем и все ее содержимое не вылилось солдату на голову. В те дни это было единственное развеселившее нас событие. Больше таким способом мы ничего не получили и этого солдата тоже больше не видели. Кто знает, где сейчас покоятся его косточки? Возможно, на поле боя, а может быть, ему всю войну пришлось охранять «врагов народа» в Вятлаге, Норильске или Воркуте.
Вначале казалось, что депортация проводится бессистемно, как в анекдоте, популярном в годы коллективизации, который мы услышали позже: выслать надо было кузнеца, но так как он в селе был один, выслали бондаря, потому что тех было двое... В России и в жизни нечто подобное происходило. Бесконечные войны и тупая идеология и так-то темный народ оболванили окончательно. В России во всех репрессиях большую роль играло доносительство. По принципу - кто первый. Зачастую основной причиной был материальный интерес «стукача». Понравилась комната, мебель, жена соседа или не давала покоя застарелая ненависть.
В Латвии, похоже, было иначе. Вначале согнанное в вагоны сообщество казалось чрезвычайно пестрым, но после более тесного знакомства с этими женщинами, с прошлым их и их мужей у всех нашлось нечто общее, стали ясны главные причины ареста. Участие в Освободительной борьбе, в частях бывших латышских стрелков, активная общественная деятельность, особенно в организации айзсаргов. И всех отличал высокий уровень интеллигентности. Зажиточность, богатство не были основным критерием.
Система, очевидно, была разработана давно и списки частично составлены еще в России (сейчас это документально доказано), и даже если использовали доносы, предательство, то только как вспомогательное средство. По российским меркам мы, латыши, были маленькой горсткой, а опыт и информированность чека были огромными.
В конце тридцатых годов в Латвии по образцу английской книги «\Л/Но 15 \л/Но» вышла книга «Я его знаю». Эта книга могла бы стать для чекистов пособием по выявлению латышской национальной интеллигенции (а может быть, и стала). Было ясно, что цель депортации - уничтожение интеллигенции, интеллектуалов. Если уничтожить интеллигенцию, с остальными справиться легче.
(Неужто Райнис и в самом деле считал рабочих «основным классом» или это был чисто популистский ход?)
Эта депортация положила начало геноциду латышского народа, и только война не позволила довести его до конца, до «нулевого варианта». Чекистам, имевшим двадцатилетний опыт уничтожения лучшей части своего и других завоеванных народов, хватило бы нескольких месяцев, чтобы в Латвии от латышского народа не осталось и следа. Вообще-то в Советском Союзе латышей начали уничтожать еще в тридцатые годы и раньше, во время коллективизации, только тогда мы знали об этом чрезвычайно мало. Не скажешь, что арест для всех явился неожиданностью. Многие это предчувствовали, только не хотели верить. Но что все примет столь массовый характер, этого, конечно, никто не предполагал. Очевидно, о массовых депортациях крестьян в конце двадцатых годов в России и в завоеванных ею странах в Латвии знали немногие.
Правда, было ощущение, что назревает что-то недоброе. Слухи ходили разные. И слухи эти, и страхи имели под собой почву. Вспоминалось все, что когда-то слышали и читали о событиях в России и здесь, в Латвии, лет двадцать тому назад. К сожалению, в народе информации об этом было чрезвычайно мало. В народе, скорее, царили антинемецкие, а не антирусские настроения. Во всяком случае, до оккупации. И даже через год, когда были уже арестованы сотни людей и многие пропали без вести, каждый все еще надеялся, что его это не затронет. Так уж устроен человек, что он всегда надеется на лучшее. Но ведь действительно невозможно представить, что тебя могут арестовать ни за что. Только за то, что тебе принадлежит построенный своими руками или унаследованный от родителей дом, или магазин, который к тому уже национализирован, как, впрочем, и дом, или за то, что был судьей или прокурором, служил в армии или в полиции той самой Латвии, суверенитет которой Советский Союз признал двадцать лет назад. Признал на вечные времена.
Каждый человек и весь народ еще на что-то надеялись. Но на что можно было надеяться? Правительства его обманули. Как старое, так и новое. Оставалось надеяться на войну. Мы, дети, войны не видели, но все наше детство было пронизано дыханием минувшей войны, славой стрелков, славой Освободительной борьбы.
Мы были детьми победителей. И вот поставлены на колени, как последние голодранцы. Как стадо баранов, согнанное в вагоны для перевозки скота.
В то время каждому мальчишке было ясно, что до начала войны остается несколько месяцев или даже недель, и утверждение о внезапности нападения, о чем всю войну и все после-военные годы трубили русские, было сказкой для маленьких детей. Это подтверждала и упомянутая офицером при нашем аресте «прифронтовая полоса».
Если не ошибаюсь, наш состав тронулся на следующий день. Началось мое первое путешествие в Сибирь.
В Даугавпилсе мы сами ходили за кипятком и за хлебом. И хотя нас охраняли, возможность сбежать существовала. Последняя возможность. Мы еще были в Латвии, у себя дома. Так я думаю сейчас. Но мелькала ли такая мысль тогда? Вероятно, все же нет. Еще дома во время ареста я мог выпрыгнуть через окно своей комнаты. Но мне было всего пятнадцать. В вагоне были ребята и постарше меня, но и они не пытались бежать. Ведь в вагонах остались бы матери. К тому же мы были совершенно уверены, что и отцы в конце путешествия будут с нами. Нам лгали, что мужчин везут первыми, чтобы они построили жилье к нашему приезду. Могли ли мы тогда предполагать, что в первую же зиму большинство из них будет лежать в болотах Вятки и Соликамска? Кто-то с пулей в затылке, кто-то умрет голодной смертью, кто-то замерзнет.
Путешествие было долгим и утомительным. Подолгу стояли на запасных пристанционных путях. На какой-то станции на параллельных путях на несколько минут остановился такой же состав с зарешеченными окнами. В некоторых вагонах были эстонские офицеры. Они пели: «Как орел в вышине...» на эстонском. Пели ли мы в вагонах? Не помню.
Мимо проносились села и города, чудовищная российская нищета. Соломенные крыши, полуразвалившиеся избы, грязные, черные от копоти города. Серыми, бесцветными казались люди. За окнами вагонов была враждебная нам Россия, родина моей мамы. Разве когда-то, двадцать лет назад оставив свою родину и близких и уйдя вместе с латышским стрелком на его родину - в Латвию, могла она подумать, что через двадцать лет ей будет суждено вернуться на свою родину как преступнице в зарешеченном вагоне? Такая судьба постигла почти всех жен старых латышских стрелков.
В духоте вагона есть не хотелось, кирпичики соленого хлеба плесневели. Заплесневевший хлеб мы выбрасывали в окна. Дети в лохмотьях дрались из-за этого хлеба. Иногда нам давали суп. В супе плавали какие-то подозрительные куски мяса или рыбы. Говорили, что это лягушачьи консервы. Большой нужды в супе пока не было, голода мы еще не почувствовали. Кое-что захватили из дома, а если у кого-то не было, с ним делились.
Аустра Путеле была не единственной, у кого почти все вещи остались у мужа, потому что нам лгали, что в конце пути вся семья будет вместе.
О том, что началась война, мы узнали, когда были уже далеко от Латвии. Двигаться стали медленнее. Навстречу шли составы с танками, пушками, солдатами. Вблизи городов ночное небо прорезали лучи прожекторов. Иногда состав останавливался в чистом поле и нас выпускали «пастись». Случалось, останавливались возле речки или пруда, и мы могли вымыться. В вагоне с мытьем дела обстояли совсем плохо. Воды едва хватало для питья. Медицинской помощи не было никакой. Одни мучились запорами, другие поносами. Дамы жаловались друг другу на какие-то загадочные, нам, мальчишкам, непонятные женские хвори. Говорили, что в некоторых вагонах есть трупы. Мертвецы. Ведь кого-то вносили в вагоны на носилках. Какую угрозу представляли для России такие «опасные элементы»?
Нас везли все дальше на восток. Миновали Уральские горы, реку Обь. Потом была станция с красивым названием «Тайга», потом красные крыши города Ачинска, и поезд повернул на юг. На станции Ададым нас «вежливо попросили» выйти.
Несколько дней мы сидели на огромной привокзальной площади. Тысячи женщин и детей из нескольких эшелонов. Встретились знакомые, родственники, даже те, кто на родине не виделись давным-давно. Мы, мальчики, жгли костры, что-то пекли. Один из нас притащил из материнских запасов несколько банок консервов а\о «Бекона экспорте» - «Свиной пятачок с рисом». В каждой банке была часть пятачка...
Спали там же, на тюках. Погода стояла теплая, ночью, правда, было холодно. Начинали познавать особенности континентального климата.
Через несколько дней прибыли предназначенные для нас подводы. По площади среди наших тюков и чемоданов ходили люди в форме и в гражданском, присматривались к нам, что-то считали, о чем-то спорили, ругались. Зубы, правда, не пересчитывали и мускулы не щупали, чего не было, того не было. Выяснилось, что представители колхозов и совхозов отбирали из нашей толпы для себя рабочих. Наши дамы пришли в ужас: похоже на рынок рабов. Пожалуй что так. Вспомнилась «Хижина дяди Тома» Бичер-Стоу.
Нас рассадили по подводам, и караваны отправились в путь. В нашем караване было около двадцати подвод, а может, и больше. Сопровождал нас чекист, молодой парень с двумя треугольниками в петлице.
Ехали мы несколько дней. Ночевали под телегами. Тут же, возле телег, паслись спутанные лошади. Помню, всеобщее веселье вызвал вопрос госпожи Друк: «Как эти лошади в темноте находят пищу?» У нее, как, очевидно, у многих евреев, в отличие от латышей никаких связей с деревней не было.
Дороги в истинном смысле слова не было, одни только рытвины и рытвины от тележных колес, растянувшиеся в ширину на несколько десятков метров. Уже осенью, когда на-чались дожди, мы нашли этому объяснение. По целине ехать было легче, чем по старой колее. В черной липкой земле колеса вязли по ступицу.
Конечной целью нашего пути было село Кулички Березовского района Красноярской области. У русских есть такое выражение: «У черта на куличках». Кто знает, откуда оно пошло, но в нашем случае оно оказалось как нельзя более метким.
Село появилось неожиданно. Дорога шла в гору, и внезапно перед нами открылась деревенская улица. Первая изба вид имела впечатляющий. Полуразрушенная, одно окно заткнуто мешком с соломой, на трубу надето ведро без дна. Но не все дома представляли столь печальную картину. Позже мы узнали, да это и чувствовалось, что Кулички когда-то было богатое село. Дома строилось основательно. Было много так называемых пятистенок, разделенных на две части капитальной бревенчатой стеной. Были и так называемые крестовые дома, разделенные на четыре части двумя капитальными бревенчатыми стенами. Большинство домов за крепкими воротами. Таких ворот, как в сибирских деревнях, нет, кажется, больше нигде. Некоторые, сплошь изукрашенные резьбой, представляли собой настоящие произведения искусства. Были там цветочки, птички, зверюшки и еще невесть что. И рублены они были по большей части из сибирского «вечного дерева» - из лиственницы. Ворота вызывают в памяти историю одного из героев романа «Золото» замечательного русского писателя Мамина- Сибиряка - золотоискателя, который после долгих поисков нашел золото и решил построить дом. Первым делом он возвел крепкие, украшенные резьбой ворота. И на этом дело закончилось: пропил все свое богатство. Только ворота и остались как память о счастливом мгновении.
(Подобные русские типы отнюдь не фантазия писателя. В 1955 году тропы геолога привели меня в большое сибирское село Тасеево. Один из жителей села по облигациям государственного займа выиграл десять тысяч рублей. Принялся строить дом. В следующем тираже выиграл еще двадцать пять тысяч. Накупил подарков всей своей родне и друзьям из соседних сел. Одному даже мотоцикл подарил. Село делит пополам речка Усолька, через которую перекинут деревянный мост. «Граф Монте-Кристо» из Тасеева уставил весь мост столами с водкой и закусками. Пили все, кто проходил или проезжал по мосту, пило все село, пока все деньги не пропили. Потом «граф» стал просить всех вернуть подарки. Дом так и остался недостроенным. Мы с женой жили в нем какое-то время.)
Заборы в сибирских селах тоже строились основательные - из наложенных одна на другую тесин десяти-пятнадцати сантиметров толщиной, концы которых были утоплены в пазы столбов.
В Куличках было много богатых домов, но большая часть их пустовала и тихо разрушалась. Дворы когда-то зажиточных крестьян строились по типу закрытого комплекса - дом, хлев, сарай, большие ворота, высокий забор. Опоясанный хозяйственными постройками двор устлан толстыми досками или тесаными бревнами. Но когда мы туда приехали, от таких комплексов в лучшем случае оставались дом с пустыми оконными глазницами и дверными проемами и воротные столбы. Одному понравился хлев, другому сарай, кто-то уволок дворовый настил, кто-то дощатый забор пустил на дрова. Хозяева богатых домов, «кулаки», лет за десять-двенадцать до нас были высланы еще севернее. Поселиться в пустующем доме кулака хотелось не каждому, да и не очень - а вдруг хозяин вернется? Проще было растащить. «Грабь награбленное», - разрешил русскому народу Ленин. Добытое и построенное за десятилетия тяжкого труда ленивый и дурак считали отнятым у них добром. Может быть, не сами они так считали, объяснили это им народные заступники социал-демократы, впоследствии большевики.
Почти всех нас разместили в таких заброшенных и разгромленных домах. И нас с мамой вместе с моей бывшей учительницей госпожой Потцеп и ее двумя сыновьями. Это был большой дом, в котором, правда, была всего одна комната. От остальных построек осталось несколько толстых головней, вместо дворового настила - прогнившие поперечные балки. От забора - несколько высоких гладких воротных столбов с вырубленными в них пазами.
Дом стоял на краю большой площади. На противоположном конце площади высилась противопожарная башня - «каланча», напоминавшая башни деревянных замков, в которых обитали наши предки. В сарае под башней стояла телега с ручным водяным насосом и несколько бочек на колесах. В тени у открытых дверей сарая вечно дремал старик-пожарный. Надо признать, что противопожарные меры в сибирских селах были на очень высоком уровне (без всякой иронии). К стене каждого дома была прибита доска, на которой нарисован какой-либо предмет - ведро, топор или багор. Из каждого дома надо было бежать на пожар с предметом, который был изображен на стене его дома. (Шутят, что после войны в Западной Украине во время пожара все убегали как можно дальше от горящего дома в страхе, что взорвутся спрятанные в подвале боеприпасы...)
В первый же день у нас побывала родившаяся в Сибири латышка. Она говорила по-латышски, плакала, жалела нас, просила рассказывать о Латвии. Странно было слушать говорившую по-латышски женщину, одетую в такие же выцветшие тряпки, как и остальные женщины села. Она рассказывала, что раньше в Сибири жило очень много латышей. Были целые латышские села, есть они и сейчас, только поредели во время коллективизации и в конце тридцатых годов. Большинство латышей репрессировано. В некоторых селах всех мужчин расстреляли, даже маленьких мальчиков. Передо мной открылась еще одна, до сих пор неизвестная страница истории латышского народа. Что искали латыши в Сибири? Мне это было непонятно.
Село было большое, но очень бедное. Более страшной нищеты трудно себе представить. А война ведь только-только началась. Эта невероятная нищета ни в одной книге не описана, ни в одном фильме не отображена. Да и вряд ли это можно описать и показать.
В первый же день бросилось в глаза, что все что-то беспрерывно жуют, при этом вонь была страшная. Вначале мы думали, что жуют они что-то вонючее, но оказалось, что жуют они так называемую серу - смолу лиственницы, а воняет черемша. Это растение, запах которого намного сильнее запаха лука и чеснока, очень богато витаминами и во время голода многих спасло от цинги и других болезней. На зиму черемшу солят. (Изредка встречающаяся в Латвии черемша по вкусу и запаху намного слабее растущей в Сибири).
Началась наша жизнь в Сибири. Мы даже не представляли, как долго она продлится. На листках бумаги, которые выдали всем взрослым и на которых сотрудник «органов» - комендант - ежемесячно ставил «галочку», удостоверяющую, что ссыльный находится на месте, было написано, что нас поселили здесь на двадцать лет. Где-то далеко на западе гремела война. Немцы уже продвинулись довольно далеко в глубь России. Мы надеялись, что они скоро захватят Москву, война закончится, и мы снова будем свободны.
Если бы еще недавно кто-то сказал мне, что я как избавления буду ждать победы немцев... В каждом латышском мальчишке была заложена ненависть к «фрицам». Нельзя сказать, чтобы эта ненависть или антипатия специально культивировались в семье или в школе. Она как бы витала в воздухе, которым мы дышали, или, может быть, была унаследована от предков. В нашем сознании билась мысль, что мы семь веков находились в рабстве у немцев. Да и ведь еще совсем недавно отцы наши воевали с немцами. Но в Сибири нашей единственной надеждой на спасение была победа ненавистных нам «фрицев».
В июне 1987 года после событий у памятника Свободы газета «Циня» опубликовала воспоминания старого коммуниста Яниса Кронитиса. Он вспоминал, что даже заключенные при немцах в Саласпилсский лагерь коммунисты осуждали депортацию 1941 года как фактор разжигания ненависти к Советскому Союзу. Действительно, ночь 14 июня изменила судьбы не только тех людей, кого затронула непосредственно, она оказала влияние на всю дальнейшую судьбу латышского народа. Если бы не было депортации 14 июня, не было бы столь массовой эмиграции латышской интеллигенции на Запад в 1944 году. Многих именно ночь 14 июня побудила добровольно вступить в немецкую армию или пойти работать в немецкие оккупационные учреждения. Многие чудовищные преступления русских оккупантов стали достоянием гласности после их отступления.
Что бы я сделал, если бы тогда в Даугавпилсе сбежал или еще дома выпрыгнул в окно? Вероятнее всего, взял бы винтовку и пошел мстить за своих родителей. Стрелял бы в убегающих русских солдат, милиционеров, красногвардейцев. Так мы, все мальчишки, думали и говорили. Но, слава Богу, ни в кого стрелять нам не пришлось. Но если бы тогда я так поступил, кто бы сегодня мог меня за это судить?
Все мужчины в селе были мобилизованы. Остались лишь совсем молодые ребята, старики и инвалиды. Три колхозных бригадира - все трое хромали на одну и ту же ногу - утром объезжали верхом село, стучали в окна кнутовищем - звали на работу. Стояла сенокосная пора. Пока бригадиры всех соберут, солнышко обычно уже высоко. А у местных женщин утро - самая страдная пора. Чуть не каждый день с утра они топили большую русскую печь. Сначала на углях, впереди пекли блины. Когда дрова прогорали, в печь ставили чугунок с нарезанной картошкой и всем прочим. Возвратившихся с работы уже ждал в печи готовый суп.
Покосные луга были далеко. Пока добирались, уже и обед. Наши дамы, особенно сельчанки, возмущались такой организацией труда.
К обеду подвозили бочку с водой. Случалось, привозили суп или отварную картошку. Хлеб брали с собой из дому. После обеда недолгий отдых. Тишина. Отдых от работы и «мата». Вначале мы удивлялись, видя, как местные женщины в свободные минуты, положив голову друг другу на колени, били вшей. Как обезьяны в зоопарке. На зуб, правда, не пробовали, как делают наши волосатые родственники. Но очень скоро и у нас появились вши, этот неизбежный спутник войны и голода. Одна из наших дам, из молодых, упала в обморок, впервые увидев вшу. Это вызвало у дам постарше приступ веселья - они-то видели и голод, и войну, и вшей. Неужто же каждому поколению латышей суждено пережить войну и все, что с нею связано?
Надрываться на работе никому из нас не хотелось. Жили в ожидании чего-то, мечтали, разговаривали и пели. Пели, пели без конца. Местные были в восторге от нашего пения.
Летом мне приходилось выполнять самые разные работы. Косил, управлялся с лошадьми - возил сено в копны. Но работой себя особенно не утруждал, как и остальные. Я вообще по природе ленив. Все лето мы еще на что-то надеялись и не горели желанием тратить силы и время на колхозных работах, за которую, по рассказам самих колхозников, все равно платили крохи, да и те только зимой. Впрочем, никто особенно и не заставлял работать. По крайней мере, вначале.
У нас, ребят, оставалось время и на шалости. А было нас немало. Иногда устраивали набеги на огороды, обирали огуречные грядки. Огурцы были самым высшим достижением сибирских огородников (пока латыши и немцы не научили выращивать и все остальное). Бывало, ходили «ревизовать» погреба. В большинстве случаев они находились во дворе. В погребах хранились кринки с молоком. Коровы молока давали очень мало - как козы, но оно было таким жирным, что, отстоявшееся, в нем на три пальца было сливок. Удавалось иногда полакомиться, пока хозяйки не было дома. Конечно, это было чистым воровством, но мне кажется, что нельзя было требовать от нас особой любви к местным, и совесть нас не мучила. Есть хотелось всегда. А кто из ребят не лазил в соседский яблоневый сад? Отношение местных жителей к нам тоже было разным. Вначале большинство относилось к нам враждебно. Их уже заранее обработали. Понарассказывали страшных вещей - приедут фашисты, чуть ли не чудища с двумя головами и хвостами. Женщины, оставшиеся без мужей, были злы на весь мир. Стали приходить первые похоронки. В одном доме пили, провожая на войну новобранца, а по соседству рыдали над похоронкой. Время было страшное, и этот народ можно и нужно было понять. Прошло время, и отношения наши улучшились.
Как мы, мальчишки, общались с местными нашими ровесниками? Вначале почти никак, поскольку русский язык мы знали плохо. Только Володя Нестеров говорил по-русски, он был русский из Латвии. Он пересказывал, о чем говорил с местными ребятами, но я мало что помню из его рассказов. А Володя до сих пор помнит, как они, раскрыв рты, слушали его рассказы о жизни в Латвии. Больше всего их удивляло, что все большие и малые дела можно справлять в квартире, для этого не надо было выходить на улицу. «Это как же - с...те прямо в комнате?» До депортации Володя только год жил в Екабпилсе, приехал он из Риги, где жил в большом пятиэтажном доме деда на улице Юра Алунана. Остальные ребята были из провинциальных городков или из сельской местности, «удобствами» все пользовались тоже во дворе, так что по этой линии мы русаков ничем удивить не могли. Сейчас при встречах с Володей мы смеемся, вспоминая, как в Куличках он формировал «образ Латвии».
Однажды на сенокосе маму укусила гадюка. Переживание было страшное. Нога стала иссиня-черной и распухла, как колода. Я был в отчаянии. Помню, что в комнате было полно людей. Пришли почти все наши и русские соседки. Но помочь никто ничем не мог. Я стоял на пороге и плакал, молился, грозил кулаком куда-то вдаль, в сторону тайги, и проклинал Сибирь, Сталина, коммунистов.
У госпожи Потцеп сохранилась привезенная из дома бутылка рома. Мама выпила полбутылки. В те невежественные времена мы еще не знали, что при укусе змеи нельзя употреблять алкоголь, действовали по старинке, как наши предки. Другого выхода все равно не было. Возможно, врачи были правы, и от рома маме стало бы только хуже, если бы мы, ребята, задолго до этого случая, не употребили часть напитка, долив бутылку водой. Попробовали ради интереса. Никакого кайфа мы не испытали.
И все же мама выздоровела. Вероятно, ром, хоть и разбавленный, помог, как помогала нашим предкам водка. До ближайшей больницы было шестьдесят километров, везти туда какую-то фашистку никто не собирался. Может быть, так было и лучше, потому что местные рассказывали, что несколько человек от укуса змеи умер в больнице. Как говаривала моя бабушка: «Бог что ни делает, все делает правильно».
Жизнь наша в далеком сибирском селе продолжалась. Прошло лето, но ничто не изменилось. Все лето чуть лине главным нашим занятием было хождение по соседним селам в поисках пропитания. В Куличках ничего нельзя было достать - даже картошки. Местные и сами перебивались с хлеба на квас. Деньги ничего не стоили. Деньгами можно было расплачиваться только в магазине, где продавались сапожный крем, зубной порошок, одеколоны «Кармен» и «Душистый горошек», усиженные муха-ми пачки прессованного чая и какая-то комбинированная из ткани и свиной кожи обувь. Даже мыла не было. Вместо него пользовались водой, настоянной на золе.
Продуктами у местных можно было разжиться только в обмен на одежду. Но лишней одежды ни у кого не было. Ведь в спешке хватали, что под руку подворачивалось. Некоторые вообще ничего не имели. Нам оставалось благодарить офицера, который в последний момент вытащил из ящиков комода простыни и прочее постельное белье и еще корзину с грязным бельем, так что у нас этого добра было довольно много. Белье мы меняли на картошку, муку, яйца, молоко. Но все это приходилось нести из соседних деревень - километров за десять-пятнадцать. Латыши жили во всех окрестных селах.
Встречаясь, мы делились последними новостями. Новости всегда были хорошие. Как утопающий хватается за соломинку, так и мы каждую новость, даже каждый сон или догадку пытались толковать в свою пользу.
В нескольких километрах севернее нашего села текла река Чулым. Красивая стремительная река. За рекой, за тайгой был город Боготол. Однажды мы с Илмаром Узансом, отправляясь в очередной раз за пропитанием, переправились через реку. На берегу в кустах нашли лодку. Это была долбленка, только по верхнему краю с обоих бортов было прибито по доске.
Оказалось, не так-то легко без тренировки переправиться в долбленке по стремительной реке. И вот, благополучно высадившись на другом берегу, мы оказались в настоящей тайге. Впервые в жизни в настоящей тайге. Сосны могучие. Вдвоем не могли обхватить. Впоследствии я прошел по тайге сотни километров, провел в тайге сотни ночей, но до сих не забыл первую встречу с этим чудом природы. С таким же чудом, как море и горы.
В прибрежных кустах мы потревожили детенышей дикой свиньи. До этого я их никогда не видел. На наше счастье, поросячья мама ушла куда-то по своим свинским делам, иначе нам, возможно, пришлось бы мчаться обратно в реку. Почти сразу же, и тоже впервые, увидел бурундука, маленького красивого зверька, такого же полосатого, как дикие поросята. Через несколько километров тропа вывела нас к селу Каменка. К нашему удивлению, председателем колхоза оказался латыш, из тех, чьи предки еще при царях оказались в Сибири. Кого-то привели сюда в кандалах, другой пришел в поисках свободы, кто-то в поисках счастья. И каждый в щедрой сибирской земле нашел если не счастье, то достаток, а кое-кто и богатство. Добытого потом, тяжким трудом. Однако все усилия оказались напрасными. Все было отнято. Часто - вместе с жизнью. Но об этом мы с председателем не говорили. Через несколько дней он отправлялся на фронт. Было ли суждено ему вернуться? Маловероятно. Из тех, кого забрали в первый год войны, редко кто возвратился домой.
Сибиряк-соотечественник угостил нас молоком, медом и вкусным хлебом - калачом. Калачи пекли из просеянной пшеничной муки грубого помола, похожи были они на большие крендели. Зимой их, как только вынимали из печи, сразу нанизывали на палку и выносили в прихожую. Здесь они промерзали и оставались всегда свежими. Мне кажется, такого вкусного хлеба я не ел больше нигде.
Летом мы часто бегали на Чулым купаться. Река была сплавная. Однажды, когда мы купались, по реке сплавляли плот, с которого доносилась латышская речь. Течение было сильным, плот мчался, как скорый поезд, мы и сообразить не успели, как он уже был далеко. Мы отчаянно кричали, размахивали одеждой, но плот исчез за излучиной реки. Кто были эти латыши? Тогда мы подумали, что, может быть, это наши отцы. Мы все еще ничего не знали о них. А они были далеко от нас - в Вятлаге, где смерть уже махала косой.
К концу лета мы с мамой подыскали другое жилье, так как понимали, что в доме на площади, обдуваемом всеми ветрами, где нет больше никаких строений, за которыми можно спрятаться от ветра, чтобы «справить нужду», перезимовать будет трудно. Я вообще не помню в селе никакой постройки, предназначенной для «нужды». Все делалось под прикрытием стены дома, сарая или баньки, при этом приходилось отбиваться от собак. Как шутили - сибирский клозет это две дубинки.
Длинная - куда повесить шапку, короткая - чем отбиваться от волков...
Мы перебрались в дом, где уже обитали пять семей. Теперь нас стало четырнадцать человек, в том числе пять подростков и две совсем маленькие девочки. Дом был большой, но комната всего одна. Мебель - большой стол и широкие прибитые к стене лавки. Такие лавки были в каждом доме, на них местные спали летом. Зимой спали на печи и на полатях - дощатом настиле в сантиметрах в семидесяти от потолка. Зимой на полатях спать было теплее.
Этот дом был окружен высоким забором с большими красивыми воротами. Когда-то во дворе существовал деревянный настил, но от него ничего не осталось, и когда начались осенние дожди, грязь во дворе была непролазная. На противоположном конце двора стояли хлев и клеть. Хозяин с женой, оба уже в годах, перешли жить в клеть. Засыпать в закрома все равно было нечего, все зерно хранилось в колхозных амбарах. С четвертой стороны, напротив ворот, двор был огорожен плетнем, за которым находились грядки и банька. В огороде росли картошка, морковь, редька и высшее достижение овощеводства - уже упомянутые огурцы.
По специальности наш хозяин был пимокат - валял валенки. Видно было, что человек он зажиточный и от «раскулачивания» его, вполне вероятно, спасло редкое и нелегкое ремесло, как того кузнеца в упомянутом анекдоте. Каких только чудес не наслушались мы о временах коллективизации!
Лето заканчивалось. Началась уборка хлеба. Тут-то и стали гонять нас на работу. Трудились кто как мог и умел. И воровали. Зимой ели то, что удавалось стащить, и то, что вымолачивали из собранных поздней осенью колосьев. За комбайном на поле оставалось много неубранных колосьев. Поля были просто усыпаны ими. Собирать колосья строго запрещалось - это приравнивалось к воровству. Мы собирали тайком, по утрам, как только начинало светать. И весной, стоило растаять снегу, до того, как поле вспашут. Жгли отаву, тогда колосья были лучше видны. Каша, сваренная из лежалых и зачастую проросших зерен, имела «пикантный» вкус. Зерно мололи ручными мельницами, одалживали их у местных. Мельничка представляла собой две наложенные друг на друга деревянные чурки, с заколоченными в них и загнутыми гвоздями. Из зерен получалась грубая крупа.
Если приходилось работать на веялке, наши дамы, по примеру местных женщин, брали с собой мешочки, пряча их на себе в разных местах, а закончив работу, наполняли их зерном. Место, куда прятались мешочки, и их величина зависели от фигуры и смелости дамы. Кладовщиком был немец, попавший в плен еще во время Первой мировой войны и осевший в Сибири, обласканный местной красавицей. Немец был очень падок на женщин и не упускал возможности при случае кого-нибудь обнять за талию, пощупать. Так что прятать мешочки было делом рискованным. Мама надевала отцовские сапоги с широкими голенищами, за которые и насыпала зерно. Потом мама заметила, что у госпожи Павулини ноги тоньше, и отдала сапоги ей, тут уж зерна входило больше.
Разве следует писать о такой аморальной вещи, как воровство? Но так было. В колхозе без воровства было не прожить. Система сформировала человека, который хотел только одного - как можно меньше работать, потому что в работе своей он не видел смысла, и как можно больше получать. Если не другим способом, то воровством. Но самое ужасное заключалось в том, что все наворованное было пустяком по сравнению с тем, что пропадало от бесхозяйственности. Тех, кто умел хозяйничать, тех, кто в начале столетия снабжал полмира хлебом, уничтожили как класс, остальных согнали в колхозы и за десять- пятнадцать лет богатейшие сибирские села и вообще сельское хозяйство были доведены до полной нищеты и деградации.
В наше село прибыли эвакуированные семьи командиров русской армии. Почти все советские «дамы» относились к нам свысока, враждебно. Ведь мы были враги народа, фашисты, с которыми воевали их мужья. Да и чего можно было ожидать от малообразованных, неинтеллигентных, оболваненных коммунистической идеологией женщин. В то время мы очень мало знали о масштабах уничтожения интеллигенции в Советском Союзе в тридцатые годы. И той интеллигенции, которая выжила в годы революции и Гражданской войны, и новой, советской. (Если советскую интеллигенцию вообще можно называть интеллигенцией. Интеллигенция не возникает за пятнадцать, двадцать лет.) Мы этих дам звали «командиршами». Собственно, так их называли местные женщины. На латышском слово это звучит более вульгарно, зато и более выразительно. Но они того заслужили. Однако были среди них разные. Некоторые обращались с нами приветливо, как с равными, без высокомерия, даже с уважением. Ведь не всех удалось тогда одурачить, просто опасно было это показывать и чем-то отличаться от остальных. Если надо было кого-то хулить, то хором, если славословить и боготворить, то и тут действовали все, как один.
Как-то воскресным утром поехали за грибами. Кажется, чуть ли не полсела. Ехали на лошадях довольно долго, десятки подвод. Въехали в красивую березовую рощу. Трава по пояс, грибов - тьма, но почти все червивые. Таких грибов в Латвии я не видел. Грибы белые, твердые, величиной с тарелку. Это были не так часто встречающие в Латвии грузди. Потом уже я много собирал их на Видземской возвышенности, в верхнем течении Аматы, но не в таком количестве и, как мне кажется, не совсем такие, как в Сибири.
Каждый набрал по ведру или корзинке, что у кого было, да еще в рубашки и в платки. И всего за несколько часов! Когда мы вышли на дорогу, местные уже ждали нас. Телеги доверху были завалены мешками с грибами. Мы удивились скорости, с которой они набрали столько грибов. Оказалось, местные берут все грибы подряд, и червивые тоже. Грибы они не варят, а несколько дней вымачивают, потом солят, как огурцы, в бочках. Когда грибы начинают просаливаться, все черви выползают из своих ходов, и их вычерпывают, как пену с кипящего супа. В грибах ни одного червя не остается. А если и остается, то зимой в темноте никто не замечает. Да еще под самогонку...
Меня направили возить зерно от комбайнов на зерносушилку. На подводу ставили большой ящик. Подъезжаешь к комбайну, и из бункера по трубе ящик заполняется доверху.
Маленькие длинношерстные сибирские лошадки шли только таким шагом, который им самим был по нраву. Ни кнут, ни прут для них ничего не значили. Единственным аргументом, который они признавали, был удар толстой палкой по ребрам, сопровождавшийся отборными ругательствами. Иногда одни ругательства были для них стимулом, дававшим понять, что с ними вовсе не шутят. Условный рефлекс. Интересно, ставил ли известный физиолог Павлов подобные эксперименты?
Однажды мы куда-то поехали. На подводе сидели наши дамы. Погода дрянная, колеса по самые ступицы вязнут в грязи. Хотелось быстрее добраться до цели, но у лошади свои планы. Прежде чем шагнет, подумает, через каждые десять шагов останавливается, размышляет, стоит ли делать следующий шаг. Я стегал ее кнутом, погонял словами, теми, что позволяло присутствие в телеге уважаемых дам. Наконец одна дама воскликнула - не заговорить ли мне с лошадью по-русски? И тогда я пустился во все тяжкие, как уж умел. Дамы от восторга попадали на дно телеги, а мой длинношерстный друг запрядал ушами и прибавил шагу. Вскоре мы добрались до цели.
Лошадь, на которой я возил зерно, имела привычку внезапно останавливаться. Бежит рысью и вдруг встанет. И стоит как вкопанная. Эта причуда лошади стала причиной моего «отдыха» со сломанной рукой. Произошло все так.
Ребят, возивших ящики с зерном, было много. Когда ящик заполнялся доверху, на него садились, свесив ноги, как на козлы. А в пустом ящике мы ехали стоя и, как ковбои, размахивая вожжами над головой, перемежая крики индейцев с русскими ругательствами, мчались в своих экипажах, словно в римских колесницах, наперегонки. Местные мальчишки с малолетства возились с лошадьми, я же имел с ними дело только два лета, когда жил у деревенских родственников. Однажды во время очередных скачек наперегонки, когда лошадь внезапно остановилась, я, очевидно, из-за отсутствия опыта, нырнул между телегой и лошадиным задом. Перед глазами заплясали белые звездочки. Я почувствовал нестерпимую боль в правой руке. К счастью, все происходило в селе. Рука в локте была неестественно вывернута. Я сразу же понял, что это вывих, еще что-то жутко треснуло, это я тоже слышал. Оказалось, раздроблен сустав. За несколько минут рука страшно распухла.
До ближайшей больницы, как я упомянул, было километров шестьдесят. Лошадь не дали, несмотря на мамины слезы, уговоры, брань. На уборке урожая каждая лошадь была на счету, и потратить целый день ради какого-то врага народа было бы преступлением против государства и народа. Мы были вне закона. Сколько ссыльных погибло в Сибири или стали инвалидами только потому, что вовремя не получили элементарную медицинскую помощь! Не один раз и очень многих из нас спасали лишь полученные еще в детстве в молодежных организациях элементарные знания по оказанию первой помощи. Не говоря уж о наших матерях - многие из них владели медицинскими знаниями на уровне сестры милосердия. Если бы у меня был только вывих, его бы вправили, но так как, очевидно, была перебита кость, попытка вправить сустав ничего бы не дала.
Поздно вечером, когда от боли я был уже в полубессознательном состоянии, дали лошадь, чтобы отвезти меня в соседнее село Сютик к ворожее «бабке Метусихе». Старуха была уникальная! Как шутят - «один глаз на булку смотрит, другой на колбасу». Такого косоглазия я ни раньше, ни потом больше не видел. И одна рука у нее была изуродована, кривая, вывернутая. Старуха завела меня в горницу (парадная комната, не предназначенная для жилья; они еще сохранились в некоторых домах), мама осталась в кухне. Вывих старуха вправила за один рывок, я доже охнуть не успел, но потом началось самое страшное - она принялась складывать кости. Старуха долго и основательно мяла и давила мой локоть, глядя в потолок и что-то бормоча. Помню, слезы у меня катились градом, очевидно, я кричал, потому что боль была ужасная. Косточки мои под пальцами старухи скрежетали, словно терлись друг о друга камни. Затем она принесла из погреба толстую сухую березовую кору, упаковала в нее мою согнутую в локте руку и подвесила на мамином платке мне на шею. Пока добирались домой, отек и боль прошли.
Когда зимой я попал в больницу в Березовке, врач, тоже ссыльная из Латвии, сделала рентгеновский снимок и сказала, что вряд ли какой-нибудь хирург так удачно сумел бы сложить раздробленную на куски кость. «Бог что ни делает, все делает правильно», - сказала бы моя бабушка.
Прохлаждался я с подвязанной на шее рукой больше месяца. Среди ребят я был самым старшим, причем признанным авторитетом. Мы бегали в окрестных рощах, играли в войну. Мне было уже пятнадцать, но работать я не мог. Обучал ребят строю, регламенту, тому, что вынес сам со школьных уроков военной подготовки, тому, чему научил меня отец. Это время - месяц или полтора - было как бы расставанием с детством. С тех времен сохранились в памяти красивые березовые рощи, золото опавших листьев, красные, подслащенные ранними морозами ягоды рябины и еще какие-то не виданные мною в Латвии ягоды.
Через месяц или чуть больше Метусиха сняла с моей руки «гипс», показала, как массировать, чтобы вернуть подвижность. Я массировал и сжимал, однако выпрямить руку до конца так и не сумел, недобрал каких-нибудь пять-семь градусов. Но это мне никогда не мешало ни при выполнении самых тяжелых работ, ни при занятиях спортом.
Когда уже в девяностые годы я упомянул об этом случае в разговоре со своим другом доктором Дзинтрисом Алксом, тоже «старом сибиряке», он рассказал, как в средние века обучали костоправов. Завязанный в мешок глиняный горшок разбивали, и будущий костоправ должен был сложить осколки на ощупь, не вынимая их из мешка. Удавалось это редко кому. Может быть, и нынешним докторам стоит предложить такой тест?
Локоть зажил, и закончились мои «каникулы». Уборка урожая шла полным ходом. Хлеб, не убранный комбайнами, молотили обычными молотилками. Это был сущий ад. Ночь, тучи пыли, которая лезет в нос, в рот, за воротник, в штаны, и непрерывные крики «давай! давай! давай!» и «мать-перемать!». Я и в Латвии видел молотьбу, даже участвовал в ней, но в памяти моей она сохранилась как веселый праздник. Кажется, даже такой пыли не было.
Организация труда отличалась большой оригинальностью, если это вообще можно было назвать организацией. Вечером почти никто не знал, что предстоит делать на следующий день. По утрам толпы колхозников слонялись возле конторы в ожидании распоряжений, кого-то бригадир прогонял домой. Иногда приходилось бросать начатую работу и переключаться на что-то другое. И так было не только в Куличках, по рассказам моих товарищей по судьбе, так было абсолютно везде. Но разве с годами что-нибудь изменилось?
Некоторое время я работал на зерносушилке, топил локомобиль. Позже, когда я уже стал классным кочегаром и работал у котлов высокого давления, вспоминая Кулички, просто диву давался, как вместе с локомобилем не взлетел на воздух. Знания мои о паровых котлах ограничивались шестым классом школьной программы.
Локомобиль надо было топить сырыми березовыми и осиновыми дровами. Подвозили не распиленные стволы, и приходилось рубить их топором, начиная с вершины. Пилы не было. Но даже если бы и была, работал-то я один. Деревья были толстые, локомобиль проглатывал мои поленья со страшной скоростью, да и сломанная рука еще болела. Зато махать топором я научился так, что смог бы участвовать в соревнованиях лесорубов в Канаде.
Поздней осенью привезли немцев. Где-то на Волге была немецкая республика. Ее ликвидировали, а население - в Сибирь. Здесь места для всех хватало. Республика немцев в России? Это было для нас что-то новое и неслыханное. Большинство прибывших были женщины и дети. И несколько стариков. Мужчин мобилизовали. Потом стало известно, что все они оказались в советских лагерях смерти. Поначалу русские не соображали, что со своими немцами делать. Сначала призвали в армию, потом спохватились, что это все же немцы, хоть и свои, и отправили в лагеря в Сибирь и Казахстан. Через некоторое время оставшихся в живых опять мобилизовали, но уже в так называемую трудовую армию - нечто среднее между армией и концлагерем. Схожая судьба постигла и другие в разное время порабощенные Россией народы. В те времена мы об этом мало что знали, Собственно говоря, не знали ничего.
Немцы не подверглись такому грабежу, как мы. С собой у них было много вещей. Сундуки с мукой, крупами, соленым и копченым мясом. У себя в республике они жили довольно хорошо. Во всяком случае, в материальном отношении. Всем прочим они ничем не отличались от русских, по крайней мере, большинство. Коммунистическая власть постепенно уравняла всех, формируя советского человека. Неизбежно и, очевидно, закономерно, что вступая в тесный контакт, народы заимствуют друг у друга прежде всего отрицательные качества. В Сибири я столкнулся с представителями разных национальностей. Последствия процесса нивелирования необратимы. Как бы печально это ни было, но и многие латыши уже ничем особенным не отличаются от других живших в Советском Союзе народов. Мы уже не можем гордиться ни своей честностью, ни трудолюбием, ни уважительным отношением к своему прошлому. Многое утрачено, а позаимствовано много негативного. В том числе привычка обвинять в собственных бедах другие народы. Это позаимствовано у русских.
Тогда я ни о чем подобном не думал. Тогда я еще слишком мало знал. Не знал, что немцев в Советском Союзе больше, чем латышей во всем мире, и не только на Волге, но и в Украине, в Ленинградской области и еще где-то. Не знал, что немецкие села - это оазисы среди русских сел (как и латышские села), не знал, что все немцы были репрессированы, что многие немцы откажутся от своих родителей, изменят фамилию, что будут разбросаны по всей огромной России, Казахстану и другим дальним республикам, что кое-где им даже будет запрещено говорить на родном языке. На место депортированных немцев завезли русских. Возможно, одним из самых пострадавших народов Советского Союза были немцы. Но разве сейчас можно измерить, какой народ пострадал больше, какой меньше? А калмыки, чеченцы, ингуши, крымские татары? А десятки малых народов, которые были полностью уничтожены, о ком даже памяти не осталось? И кто в этом виноват? Может быть, инопланетяне? Может быть, Маркс, Энгельс и Ленин, кого давно уже нет на свете? Может быть, евреи, которых не однажды и не один правитель обвинял во всех несчастьях? Может быть, горстка латышских стрелков? А может, «старшие братья» - русские? Но русский народ и сам страшно пострадал. Пытки, расстрелы, голод испытывал он на протяжении всех лет советской власти. Если тебя избивали, трудно признать свою вину. А если ты еще и представитель большого народа, которому внушили мысль о его судьбоносной миссии, о высшей миссии, предназначенной ему судьбой или Богом, о «сверхзадаче», то все воспринимается как само собой разумеющееся и неизбежное и нечего себя обременять угрызениями совести. У великого народа - великое будущее! Это идеология не только нацистов и коммунистов, это существовавшая в веках идеология любой великой страны и народа, когда надо было кого-то уничтожить. Пусть даже целый народ.
Настала зима. Первая зима в Сибири. Но последняя ли и единственная? Мы жили надеждой. Надеялись до поздней осени, что зиму нам не придется провести в Куличках. Ведь снились такие хорошие сны, доходили самые разные «надежные» новости, и немецкая армия была уже у Москвы! Но вскоре навалил снег метровой глубины, наступили страшные холода, и думалось только об одном - как пережить зиму. Если бы мы тогда знали, что впереди не одна зима, что будут зимы еще холоднее и страшнее, возможно, некоторые от отчаяния и безысходности погибли бы в первую же зиму. Тому, кто сам подобного не пережил, этого не понять.
Зимой нашим главным занятием была заготовка дров для колхоза и для себя. В лес ходили толпой и довольно далеко. Из дома выбирались затемно и возвращались по темноте. Дрова возили домой на двух санках. На передних толстые комли, на вторых - верхушки. Дрова были неважнецкие. Рубили молодые березки да осинки. Рубили все подряд, за собой оставляя одни пеньки, как повелось издавна. Так с каждым годом лес все дальше отступал от сел. Предназначенные для колхоза деревья складывали там же, в лесу. От местных женщин научились складывать деревья так, что снаружи поленница казалась полной, а в середине была полупустой. В середину складывали кривые деревья. Иначе план было не выполнить. Еще летом мы удивлялись, когда видели в лесу высокие пни. Зимой поняли - снежный покров такой глубокий, что волей- неволей пни получались высокими.
Обычная русская печь большую комнату не нагревала. Никакой лежанки, как у наших печек, у нее не было, весь жар улетал в трубу, как в камине. Топили железную печку. В ней сырые березовые поленья горели плохо, а осиновые только шипели, и когда началась настоящая зима и завыла пурга, дом продувало со всех сторон, и согреть его было невозможно. Где- то надо было доставать сухие дрова. Ночью в пургу, когда небо сливалось с землей и не надо было бояться, что нас поймают на неблаговидном деле, мы шли в заброшенные кулацкие дома, собирали там все, что еще оставалось. Столбы от забора, столы, лавки, даже двери снимали с петель. Все это было сделано из толстых березовых или лиственничных досок и давало такой же жар, как уголь. С ними хорошо горела и сырая береза, и даже осина.
Только зимой мы по-настоящему оценили полати. Спать под потолком было тепло. Маленькие девочки с мамами спали на печи.
Наша одежда никоим образом не подходила для сибирской зимы. Редко кто сумел захватить из дома шубу или теплое пальто. У многих вообще теплых вещей не было. Шили куртки из одеял. И у меня была такая куртка. Но на ноги все равно надеть было нечего. Шили ватную обувь. На нее надевали лапти, которыми снабжали нас местные старики. Я в ту зиму износил несколько пар лаптей. Отличная обувка. Такой комплект - ватные носки и лапти - ничуть не хуже валенок. Был бы в то время у кого-нибудь фотоаппарат! На кого мы были похожи! А местные! Нынешним режиссерам не мешало бы это видеть, тогда в некоторых фильмах не появлялись бы явные глупости.
Иногда нас посылали на маслобойку. Это была небольшая, необычная, построенная еще в начале века зажиточным крестьянином фабричка. Масло отжимали главным образом из «рыжика» - растения с маленькими желтыми семенами, похожими на горчичные. Попадались и семена конопли. Мы тогда делали селонский «сток». Однажды привезли семена мака. Тут уж мы наелись до одури. В маслобойке работали мы с удовольствием. Тепло, можно испечь на масле картошку или блины, если были картошка или мука. Масло в сковороду наливали до краев. В те времена для большинства из нас привычное сейчас растительное масло было в диковинку. Еще летом, когда мы видели, как местные макают в масло хлеб, нас мутило, зато зимой были счастливы, когда удавалось поесть жирного.
Давильный механизм маслобойки приводила в движение ходившая во дворе по кругу лошадь. Оборудование маслобойки, десятки шестерен самой разной величины, вращающийся нагревательный котел, черные, прокопченные и пропитавшиеся маслом бревенчатые стены и низкий потолок, русский мужичок (мастер) в промасленном черном ватнике и ушанке с черным от копоти, давно не мытым лицом, наши дамы в фантастическом одеянии - все это в свете маленькой керосиновой лампы казалось чем-то нереальным, гротескным, словно сошедшим со средневековой гравюры. С гравюры Брейгеля. Эта картина почему-то очень четко запечатлелась в памяти.
У меня была целая тетрадь с рисунками, сделанными в первый год нашей жизни в Куличках. Деревенские избы, оборванные старики и старухи, наши дамы в немыслимых туалетах и эта необычная маслобойня с похожим на черта мастером. Но обстоятельства вынудили меня и эти рисунки, и кое-какие «литературные» наброски спрятать, и они погибли.
Долгими зимними вечерами наши дамы занимались спиритизмом: очень хотелось хоть что-нибудь узнать о нашем окутанном мраком неизвестности будущем. Дамы вертели на столе тарелочку. Сначала расстилали лист бумаги, на нем по кругу писали алфавит. На ободке тарелочки рисовали черточку. Дамы садились вокруг, клали палец на край тарелочки, и она начинала двигаться. Тарелочка вертелась, потом останавливалась напротив какой-нибудь буквы, и составлялись слова и предложения. Иногда она вертелась с такой скоростью, что руки не успевали ее коснуться. Вызывали различных «духов». Они в нескольких словах рассказывали, что нас ожидает. Случалось, духи разыгрывали нас. Как-то вечером во время очередного сеанса, когда в комнате было так натоплено, что одна из пришедших дам сидела за столом босая, «дух» заявил: «Укушу за ногу!». Босая дама в страхе взлетела на скамейку. В другой раз, когда дама, не принимавшая участия в сеансе, сидела у стола и вязала, иногда задевая спицами о стол, дух заявил: «Не терплю гвоздей в столе!». Вязальщице пришлось отодвинуться от стола. Я до сих пор не знаю, сама ли вертелась тарелочка, но вертелась с шумом, временами чуть не падая со стола. Я в такие вещи не очень-то верю, но и категорически отрицать тоже не хочу. Во всяком случае, спиритические сеансы давали некоторым хоть каплю надежды, уже этим оправдывая себя. Надежда - вот главное. А может быть, вера? Но не каждый наделен талантом веры. Вера, похоже, способна творить чудеса. А если ее нет? Люди получили страшный удар. Их вера тоже. Казалось, было бы легче, появись некто, проповедующий слово Божье, чтобы поддерживать и укреплять в людях веру. Но у нас было лишь то, что каждому было дано в колыбели, заложено в душе, что еще в раннем детстве дали родители, школа и церковь.
Жили мы дружно. Не только мы, дети и подростки, но и женщины. Все в одной комнате. Каждая со своим характером, своими привычками, капризами. Сейчас этому можно только удивляться. Очевидно, беда, которая коснулась всех, так потрясла, что на мелочи никто не обращал внимания.
Наш дом был самым многолюдным. К нам в гости приходили латыши со всего села. И тогда мы пели. Много пели в первую зиму, да и все последующие годы. Песни нас сближали, объединяли, сплачивали и в известной степени помогли выжить. Особенно на первых порах. Так это было. Возможно, это с трудом поймет тот, кому не довелось оказаться в подобных обстоятельствах.
Я выучил массу песен. Всю «Сильву» пели от начала до конца. Самыми голосистыми были наши самые молодые дамы - Аустра Путеле и Марга Матисоне. Пели вечерами напролет, и не было случая, чтобы песен не хватило. Пели не только знакомые по школьному хору и летним лагерям, в детстве я знал и песни старых стрелков, и студенческие песни, которые пел мой отец, когда мы ходили в походы по окрестностям Екабпилса, как говорил отец, отправлялись «в путешествие по родной стране». В Куличках знания мои пополнились. И не только за счет песен. Школы мы были лишены, но мы, находились в обществе интеллигентных, образованных людей, и это заменяло нам иные источники знаний. Те несколько книг, которые кто-то сумел захватить из дома, были не раз прочитаны от корки до корки. Читать на русском языке умели лишь старшие дамы. Детские книжки на русском доступны были только в сельской четырехлетке. Самые маленькие, кто еще не работал, начали учиться в школе, поначалу, правда, ничего не понимая.
Голодали ли мы в первую зиму? Нет, это еще был не голод. Мы наворовали немного зерна, собрали колосья. Заработать мы ничего не заработали, всего лишь каких-то килограммов десять зерна за все лето и осень. Есть хотелось постоянно. Хлеб пекли, добавляя в него жмых - то, что оставалось от семян после отжима масла. Хлеб имел цвет дегтя, мокрый, тяжелый. В ту зиму мне запомнился только мороженый или подгнивший картофель. Натирали его на терке и запекали в печи. Как-то перебивались. Не голодали. Это нам еще предстояло.
Мама кое-что зарабатывала рукоделием. У нас было много белья, простыней. Мама их резала на небольшие куски, где-то добытыми нитками вышивала в уголке или по краю красивый узор. Этим мама любила заниматься и дома. У местных колхозников такой товар, безусловно, спросом не пользовался, они даже не знали, что такое простыня, не говоря уж о более тонких вещах (за редким исключением). В чем днем ходили, в том и укладывались спать. Старый ватник в изголовье, полушубок сверху. Ручную работу покупали командирши, которых в окрестных селах было довольно много, и «аристократия» в районном центре - чиновники, врачи, учителя и пр.
Зимой стояли сильные морозы, постоянно пуржило. Оттепелей, как у нас в Латвии, здесь не знали. Термометра не было, но в очень холодные дни местные утверждали, что на улице градусов пятьдесят. Интересно местные обходились со своим скотом. Коров держали в хлеву, где стены заменял плетень. Коровы имели густую шерсть, они не мерзли, но если не удавалось уследить за рождением теленка, то он замерзал. Вовремя принятого теленка вносили в дом, где держали на привязи до самой весны. Когда теленок задирал хвост, хозяйка быстро подставляла ему посудину. Если не успевала, все растекалось по комнате. В загородке под обеденным столом обитали куры, в каком-нибудь углу - ягненок или поросенок. Встречались и бревенчатые хлева, но такие щелястые, что ничем не отличались от плетеных. Коров держали и в сенях, если таковые были.
Что это? Только ли лень, которая издавна присуща большей части русского народа, особенно мужчинам? Или это было нечто новое, сформированное новым строем? Если твоя скотинка упитанней, чем соседская, если твой двор чище, ты уже кулак.
С фронта приходили плохие вести. Для нас плохие. Газеты писали о сокрушительных победах русской армии. Немцы под Москвой были разгромлены и отступили. Наши надежды на скорое возвращение таяли с каждым днем. Мы были потрясены. А во многих домах русские женщины лили слезы и горевали по своим павшим на войне мужьям и сыновьям. Мы же о своих отцах по-прежнему не знали ничего. Только снились дурные сны. Мы и подумать не могли, что в первую же зиму в российских лагерях смерти погибнет большинство латышских мужчин.
В ту первую зиму мы часто обсуждали, что же с нами произошло и как вообще такое могло произойти. Все мы были из одного города, большинство дам знали друг друга с юности, а то и с детства или вместе работали в общественных организациях. У всех были общие знакомые в Екабпилсе, и этим знакомым основательно перемывали косточки. Называли и тех, на кого падало подозрение в предательстве. Имен было немного, и я их уже не помню. И слава Богу, что не помню. Их давно уже нет на свете, и мир праху их. К тому же это были всего лишь догадки. Госпожа Павулиня, которая работала с моим отцом в Екабпилсском отделении Государственного банка, рассказывала, что примерно за неделю до нашего ареста новый, назначенный коммунистами директор банка Ротбартс попросил у отца комплект ключей от сейфа. Отец не дал, потребовал приказа из Риги. Чтобы открыть сейф, нужны были три ключа. Один хранился у директора, второй у главного кассира, третий у главного бухгалтера, т.е. у моего отца. Помню, как связку банковских ключей перед сном отец всегда клал под подушку. О том, что у него потребовали ключи, отец рассказывал и маме. Как бы там ни было, но вряд ли в аресте отца можно было винить директора банка и тех «стукачей», что фигурируют в деле моего отца. Мне кажется, свидетельства нескольких прислужников новой власти не имели большого значения. Это была «мелочь» на фоне всех прочих «преступлений» отца. А их было достаточно. Во-первых, активный общественный деятель. Долгие годы отец работал в редакции газеты «Екабпилс Вестнесис», был даже ответственным редактором. Насколько я помню, он был постоянным председателем Екабпилсского отделения Общества Красного Креста, активно сотрудничал в Обществе просвещения, в Обществе борьбы с туберкулезом и др. Большим «грехом» был и дом, доставшийся отцу по наследству. Грех этот был не столь уж велик, если принять во внимание, что дом принадлежал ему наравне с братом и матерью (это не стало препятствием для национализации дома). Но самым главным преступлением отца, вероятно, считалось то, что он был одним из основателей Екабпилсского отделения организации айзсаргов. Я хорошо помню фотографии тех лет. Первые айзсарги. Еще не в форме, в мундирах разных армий, в шляпах, ушанках. Отец в форме стрелка сидит впереди, скрестив ноги, как турок. По одну сторону от него, опершись на локоть, лежит Бородовскис, не помню, кто лежал по другую сторону. За ними, опустившись на одно колено, расположился еще ряд, за ними стоит второй ряд айзсаргов. Все с винтовками. Фотографий тех лет было много. Где они сейчас? Отец был первым командиром штабной роты, руководил поимкой бандитов в окрестностях Екабпилса. Знаменитых бандитов - Каупенса и Адамайтиса я не помню, память сохранила имя последнего знаменитого бандита - Сидорова. На суде Сидоров в качестве одного из смягчающих его вину обстоятельств назвал случай, когда, прячась в канаве, он не выстрелил из пистолета в проходившего мимо Кнагиса, т.е. в моего отца.
А то, что отец был старым латышским стрелком? А позолоченные офицерские погоны, полученные им еще в царское время? Разве ж одного этого не достаточно? Всего несколько лет назад по всей России шел «отстрел» старых латышских стрелков и вообще латышей. Продолжение последовало в Латвии.
Сколько людей, столько и судеб. Но, как я уже говорил, было и много общего в прошлом несметного числа арестованных в те дни.
Очень часто мы говорили об этом долгими зимними вече-рами. Говорили и о правительстве - о деятелях как старого, так и нового, советского правительства. Разве ж не обязаны были они поинтересоваться нашей судьбой? Мы ничего не знали ни о первых, ни о вторых. Не знали, что в Кировской области находятся не только наши мужчины, но и новое правительство Советской Латвии и деятели новой советской культуры, что следователи, которые там же, на севере Кировской области, в знаменитом Вятлаге пытали и судили латышских мужчин, были из Латвии. (В Вятлаге какое-то время следователем работал и будущий председатель чека Латвийской ССР Веверс.) Эти «герои» тыла не оказывали сопротивление вторгшимся в Латвию немцам, а убивали тех, кто еще совсем недавно бил на фронтах немцев и бил бы снова, если бы история пошла иным путем.
Во время спиритических сеансов не раз вызывали и дух Карлиса Улманиса. Не помню, что он отвечал. Но в то время он ведь был еще жив. Об Улманисе говорили часто. И о Балодисе, о Мунтерсе и других государственных деятелях и их дамах. Всем перемывали косточки. Обсуждали и членов правительства, и наших екабпилсских. Но велись и интересные разговоры и споры о политике, о событиях последних лет, о прежних войнах. Все в последние годы, втом числе и мы, подростки, сильно политизировались. Ведь войны следовали одна за другой. Война в Испании, потом совсем рядом, в Финляндии, потом началась мировая война. И венец всего - оккупация Латвии. Мы только-только успели оправиться от предыдущей войны. Еще не заросли старые окопы, еще недавно мы лазали в старых блиндажах в Биржских лесах. В подвалах и среди развалин домов еще валялись тысячи неиспользованных патронов. (Из медных пуль, нагревая их в печи, мы выплавляли свинец, а из пуль получались замечательные наконечники для стрел.) Кое-где еще рвались гранаты. Многое напоминало минувшую войну. И развалин, и воспоминаний хватило бы надолго, но судьба предоставила нам только короткую передышку, и снова война. И снова - противостояние чужих государств, чужих народов, чужих идей - и снова на нашей земле. Но что с нашей армией, с флотом, с офицерами? Мы не знали ничего.
«Вы оставайтесь на своих местах...» Может быть, не эти слова должны были прозвучать в то время из уст человека, который сам взвалил на свои плечи ответственность за судьбу народа и страны. Народ должен был знать о том, что происходит. Когда народ это понял, было уже поздно. Как расценить это падение на колени? Как ошибку или преступление? Об этом мы говорили на протяжении всех лет ссылки и ответа найти не могли. Говорили о том, что Улманис действительно остался на своем месте до конца, хотя была возможность спастись. Может быть, он до последнего надеялся что-то сделать во имя своего народа?
Мы никогда не узнаем обстоятельств, которые заставили Улманиса действовать именно так, а не иначе. Как бы то ни было, он свою вину, если это вообще можно назвать виной, искупил. И не своей смертью, а своей работой, всей своей жизнью во имя блага Латвии. В те годы мы много об этом говорили. Но если кто-то еще и мог упрекнуть Улманиса за 1940 год, то ни у кого не было сомнения, что в 1934 году все было сделано правильно. Настолько стремительным и наглядным был качественный скачок, что только слепой этого не видел. Много говорили мы и о так называемых партийных временах. Сейм всем надоел по горло. Над депутатами издевались, рассказывали о них анекдоты. И не только. Работа Сейма начинала пугать. Со стороны левых сил уже звучали предложения о некой конфедерации с Россией. Даже больше. Я очень хорошо помню не только митинги и манифестации 1940 года, но и демонстрации «социков» и им подобных под красными флагами в тридцатые годы. Кто знает, куда привел бы нас тогдашний левый Сейм, тогдашние левые силы.
Такая ситуация для большинства была неприемлемой, тем более для такого политически активного и энергичного человека, как Карлис Улманис. И он сделал то, что надо было сделать. В тех условиях это, возможно, было самое правильное решение. Кто знает, как сложилась бы наша судьба, если бы 15 мая 1934 года Карлис Улманис не разогнал сильно полевевший Сейм. Возможно, русские пришли бы к нам не в 1940 году, а на несколько лет раньше. Рука на «отстреле» латышей натренировалась еще в 1937 году. Об этом можно спорить, так же как и обо всем, что касается тех времен, но исключить такую возможность нельзя. И никакие договоры не были бы приняты во внимание. Россию от нарушения любого договора всегда останавливал только страх «получить по зубам».
«Вы оставайтесь на своих местах...» А какие слова должны были прозвучать в эфире? Может быть: «Мы оккупированы!» Может быть: «К оружию! Отечество в опасности!» Может быть, надо было воевать? Иногда склоняешься к такой мысли. Но как долго мы продержались бы? Сколько из нас осталось бы в живых? А после войны? Финский вариант? В лучшем случае. А может быть, полное уничтожение? Уничтожить два миллиона - имея такой опыт, который был накоплен в годы коммунистического правления, ничего не стоило.
Прошло пятьдесят лет, и вот мы опять свободны. Но могло случиться и так, что некому было бы этой свободе радоваться.
Говорили и о том, что не все было так безупречно в улмани- совские времена. Огромный, заслуженный авторитет Улманиса постепенно превратился в маленький «культ «. На политическом фоне тогдашней Европы в этом не было ничего чрезвычайного и противоестественного. И если кто-то обвиняет Улманиса в уничтожении демократии в Латвии 1934 года, то историки должны бы знать, что демократии в том значении, которое мы вкладываем в это слово сегодня и которая существует в других странах, в те времена в мире вообще не существовало. Она только-только зарождалась. «Во всём учитывай время» - гласит древнее китайское изречение.
Весной, когда мне исполнилось шестнадцать, я стал полноправным ссыльным со всеми вытекающими отсюда последствиями. Я получил документ - бумажку, на которой расписывался комендант, приезжавший из района раз, а иногда и два раза в месяц.
Сейчас кажется невероятным, до какого абсурда в те годы довел свои действия «правоохранительный» аппарат. Примеров тому масса. Были случаи, когда детей во время ареста родителей не было дома, и они оставались в Латвии. После войны, списавшись с матерью, ребенок приезжал к ней в гости и немедленно регистрировался как высланный. Позже, в пятидесятые годы, мать освободили, дочь нет. Так произошло с госпожой Павулиней из Екабпилса и ее дочерью Ритой. Рита и сейчас живет в Сибири. Подобных случаев было немало.
Были случаи, когда главу семьи освобождали из лагеря как отбывшего наказание или сактированного (ни на что не пригодного). Кое-как он добирался до семьи, которая находилась в ссылке, и там получал разрешение вернуться в Латвию. Он получал разрешение, а жене и детям, которые были сосланы из-за него, разрешения не давали. Перечислять можно без конца. Мы и сами многое видели и пережили, но чего только не довелось услышать о событиях во время коллективизации и в конце тридцатых годов в России! Что мы, маленький народ, могли сделать, как могли сопротивляться, если сам великий русский народ более двадцати лет подвергался травле, уничтожению, умирал голодной смертью?
Первую зиму в Сибири мы пережили. Все еще были живы. Даже младенцы мадам Эрмансон и мадам Линды перезимовали. Наступила новая весна, появились новые надежды. Напрасные.
Зимой наши старшие ребята Илмар Узанс и Модрис Рубенис, которым было уже восемнадцать или девятнадцать, закончили курсы трактористов и стали пахать. Меня назначили к тезке помощником, так называемым прицепщиком. Я сидел на плуге и на поворотах поднимал лемеха. Пахали и ночью. Ночи были темные, никаких фонарей на тракторе не было, и я должен был бежать перед трактором с факелом и показывать дорогу. Пахали на колесном тракторе, старой развалюхе. Чуть не каждый день приходилось снимать картер и подтягивать подшипники, иначе мог рассыпаться баббит. Однажды так и случилось, и разразился громкий скандал. Моему трактористу угрожали тюрьмой за вредительство. То, что запашут колосья, оставшиеся еще с осени, вредительством не считалось. А за сбор заплесневевших колосьев грозила тюрьма.
Трактористы жили в вагончиках. Парни и девчата вместе. Из парней еще кое-кто не был призван. Трактористов брали в армию в последнюю очередь, но и их становилось все меньше. К началу лета остались одни девчата да бригадир, который каждую ночь проводил с другой «дамой» - без особых скандалов, без проявлений ревности. Мы с моим трактористом спали на столах под навесом, так как в вагончиках спать было невозможно. То, о чем раньше мы узнавали из анекдотов и разговоров с другими ребятами, можно было увидеть вживую.
Кормили в основном овсяной кашей. Заправляли тем же маслом из рыжика. В бидоне с маслом, вероятно, когда-то хранили керосин, потому что это было не масло, а похожее на керосин. Но делать нечего, привыкли и ели. Другого не было. Самым гадким была «химическая» отрыжка. Весь мир вонял керосином.
Долго пахать мне не пришлось. В конце мая или в начале июня 1942 года ссыльных из средней части Сибири стали переводить на север. Из Куличек отправили пять или шесть семей, в основном одиноких женщин и женщин с подростками. Мы с мамой тоже оказались в их числе. Говорили, что посылают на рыбные промыслы и только на лето. Я даже лыжи не взял, отдал их братьям Круминьшам на хранение.
Я был доволен. Мне до смерти надоело работать на земле. Север манил меня с детства. Я прочел всего Джека Лондона. Помнил я и «33 года в вечных льдах» - о путешествии на аэростате шведского полярного исследователя Андрэ. В последний, советский год в Латвии очень много писали о полярниках, показывали о них фильм. Еще зимой в Кулички с севера вернулся один из местных. Иногда он заходил пофлиртовать с нашими дамами. Рассказывал о севере, но я тогда мало что понял. На ногах у него была красивая обувь из оленьих шкур, на голове оленья шапка.
И снова запряженные мохнатыми сибирскими лошадками сотни повозок, утопая колесами в весенней грязи, везли латышей навстречу неизвестности.
Ехали несколько дней. В пути к нашему каравану присоединились повозки из других деревень. Проезжали мимо красивых Ужурских гор, покрытых ковром из ирисов, тюльпанов и лилий. На станции Ужур нас снова ждали зарешеченные телячьи вагоны, которые повезли нас в Красноярск. Когда мы переезжали мост через Енисей, госпожа Витола рассказала, что в детстве, когда беженцами они жили в Красноярске, недалеко от этого моста в проруби полоскали белье. Не верилось, что в проруби можно полоскать белье. Вот и до Сибири привела латышей когда-то судьба беженцев.
Высадили нас на правом берегу Енисея, на станции Енисей. На другом берегу раскинулся Красноярск. На набережной толпился народ. Звучала латышская, немецкая, молдавская речь, другие языки. Ждали прибытия барж, которые должны были везти нас на север. Мы приткнулись к каким-то латышам. Ночи были холодные, но дождя не было. Тех, кто прибыл раньше, разместили в двухэтажных бараках, но завидовать им было нечего. Такого несметного количества клопов я больше не видел нигде. Полчища их шагали, как солдаты, по стенам и нарам, по шестнадцать в ряд, и казалось, что слышен даже звук шагов и команды...
С нашего «стойбища» видны были скалы - знаменитые Красноярские Столбы. Никто не знал, когда нас повезут дальше, и как-то утром мы, несколько групп ребят, отправились на поиски приключений. Помню Леонида Стенгревица, Андрея Кулиса, Олафа Гутманиса, Артура Крейлиса. Пошли мы к скалам. Путешествие было незабываемое! Никто из нас до сих пор ничего подобного не видел. Здесь, с вершин столбов, дикая и прекрасная сибирская природа раскрылась перед нами во всем своем великолепии. Мы карабкались по почти вертикальным скалам, залезали в щели и пещеры, скатывались вниз по россыпям галечника. Пробыли там до вечера. Вернулись уже в темноте, усталые, с разодранными штанами и обувью, но безумно счастливые. Однако предпринятое нами путешествие чуть не закончилось печально. Во время нашего отсутствия подали баржи, и с пирса всех уже погрузили. Наши матери были в отчаянье. Начальство считало, что мы сбежали.
Началось мое первое путешествие по Енисею на север. Наш караван состоял примерно из десяти барж и лихтеров. Возможно даже, что было больше. Теперь я уже не помню, чем они друг от друга отличались. Вел караван большой пароход. Самый большой на Енисее. Кажется, "Вячеслав Молотов". Мы, вся команда "альпинистов" и все из Куличек, плыли на лихтере № б, первом в караване. Большинство пассажиров на нашем лихтере были латыши. Были и немцы с Поволжья и из Ленинградской области, группа молдаван в белых льняных штанах и расшитых рубашках. Здесь же находилось и все начальство. Чекисты разместились в надпалубных пассажирских помещениях. Мы ехали в трюме, который был оборудован деревянными нарами, как и вагоны, только уже не в два, а в три этажа. На больших баржах нары были в четыре и даже в пять этажей.
Чем дальше мы плыли, тем шире становился Енисей. Проплывали мимо устья какой-то большой реки. Прозрачные воды притока врезались в мутно-желтый Енисей, как голубое лезвие ножа. Эта была Ангара. Мог ли я тогда подумать, что через восемнадцать лет на берегу Ангары родится моя дочь?
В памяти остался трагический случай - смерть одного из наших. Ему было около 20 лет. Он был студент, болел туберкулезом. Его вынесли на палубу, завернули в сагшу (часть народной одежды латышских женщин, в виде накидки) и на лодке вывезли на берег. Зарыли его в прибрежный песок среди кустов тальника. Мы пели: "Умчался латыш далеко на чужбину, на статном жеребце. ..". Говорили, что таково было последнее желание покойного. Далеко по великой сибирской реке пронеслись звуки старинной песни латышских ссыльных еще царских времен.
Енисей становился все шире и шире. Налетел сильный шторм. Удивляло, что на реке могут быть такие огромные волны. Многие страдали морской болезнью. Шторм усиливался, срывая судна с якорей, и порывы ветра стали сгонять лихтера и баржи в кучу. Помнится и комичный случай. На баржах туалеты висели за бортом, над водой. Трос, соединяющий баржи, зацепил один из висящих "гальюнов", и тот упал в воду месте с сидящим в нем солдатом - к неописуемому восторгу зрителей. "Человек за бортом!" Несчастный солдатик был удачно из воды выловлен.
Чем дальше на север, тем пустыннее становились берега. Время от времени на берег высаживали группы людей, человек по десять, двадцать. Иногда в каком-нибудь населенном пункте, но случалось, что на берегу виднелась лишь одинокая избушка. Позднее мы узнали, что многих разбросали по берегам притоков Енисея - Ангары, Подкаменной Тунгуски и Нижней Тунгуски. Большую группу высадили в городе Туруханске, в устье Нижней Тунгуски. Более-менее значительные населенные пункты, десятка в два, три построек, попадались только через каждые восемьдесят-сто километров. Между этими селами, которые здесь именовались «станками «, иногда на берегах попадались одинокие избушки. Туруханск был первый крупный населенный пункт после Енисейска. Потом была Курейка, место последней ссылки Сталина. Вскоре после Курейки мы пересекли Полярный круг. Пересекли незаметно, даже не зацепившись за него.
Вечером 23 июня мы пришвартовались в порту Игарка. Тогда мы еще ничего не знали об этом городе. Не знали, что город построен на костях российских крестьян, жертв коллек-тивизации. Не знали, что и многим нашим товарищам по несча-стью будет суждено остаться здесь навечно. Латышам, немцам, молдаванам, калмыкам, а также многим через несколько лет после нас сосланным сюда украинцам, грекам, таджикам, че-ченцам и еще многим и многим.
Была ночь с 23 на 24 июня - Янова ночь, самый большой праздник латышей, когда в Латвии всю ночь звучат песни, горят костры, пиво льется рекой, и парни с девушками ищут в лесу цветок папоротника, который цветет будто бы только этой ночью. Была ночь, но было светло, как днем. День длился круглые сутки. Так было несколько последних дней. Но особенно странным казалось это в Янову ночь. Цветет ли папоротник в такие светлые ночи?
Пели ли мы тогда? Во время нашего путешествия мы пели постоянно. С нами на лихтере ехала певица из Лиепайского оперного театра. Когда она давала волю своему колоратурному сопрано, все офицеры и солдатики нашего конвоя стояли вокруг с разинутыми ртами, как загипнотизированные. Мы пели все время, но пели ли мы в ту ночь, не помню. Слишком тревожно было. Нас опять сортировали, как в прошлом году на станции Ададым, где высадили из вагонов. Тогда по сорок- пятьдесят семей нас развозили на подводах по колхозам и совхозам. Теперь группами по двадцать-тридцать человек рассаживали на небольшие баркасы. Было непонятно, по каким признакам распределяли людей. Группу человек из двадцати, в которой были и мы с матерью и столько же ленинградских немцев, тоже загнали на баркас, и небольшой катерок поволок нас на север.
Плыли всю ночь. Солнце ненадолго скрылось за вершинами растущих на берегу елей и опять появилось во всем своем блеске. Великая река была как зеркало. Было очень красиво.
Угрюмо, дико, но красиво. На правом берегу еще лежали глыбы льда. В расщелинах скал белел снег. Было очень холодно. Я спустился в трюм, прилег на тюки и моментально уснул.
Меня разбудили громкие голоса и беготня. Когда я выбежал на палубу, баркас уже приставал к берегу. На береговой круче виднелось какое-то деревянное строение с пустыми глазницами окон. С баркаса на берег скинули трап, и мы стали выносить на берег вещи. Трап сильно раскачивало, и перебираться по нему было не просто. Ползли на четвереньках, вещи тащили волоком. У кого-то вещи упали в воду, кто-то сам упал. Разгрузка кончилась, и катер, тарахтя мотором и волоча за собой баркас, уплыл, оставив на каменистом пустынном берегу жалкую кучку ободранных чемоданов и грязных тюков и группу людей, имевших еще более жалкий вид.
Дом был довольно большой. Капитальная бревенчатая стена разделяла его на две части. В одной поселись мы, в другой немцы. Наша половина была метров шесть-семь в длину и метра три в ширину. Никакой мебели не было. Из досок, выброшенных из баркаса, начали сооружать нары. На чердаке нашли несколько оконных рам с жалкими остатками стекол. Недостающие стекла заменили досками.
Вскоре нас посетила делегация из нескольких мальчишек. Сначала они рассматривали нас с некоторого расстояния, потом, осмелев, подошли и пытались разговаривать со мной и с Янкой. Нас было двое подростков - мне было шестнадцать лет, Янису Силиньшу пятнадцать. Мы оба были маленького роста. В школе я был одним из самых маленьких в своем классе. Наши знания русского оставляли желать лучшего, но немного пообщаться мы все же смогли. Вместе с ребятами пришли две собаки - Мишка и Шпанка, которые не отставали от нас все лето.
Место, где нас высадили, называлось «Сопочка». До революции здесь была так называемая «фактория» - пункт закупки пушнины у туземцев, принадлежавший купчихе Куликовой. Ее могила с остатками сгнившего креста находилась на расстоянии полсотни метров от дома. Какой смертью она умерла в то дикое время, в этом диком краю? Одному лишь Богу ведомо. От нескольких стоявших здесь когда-то построек сохранился только дом, в котором мы и поселились.
Лето только начиналось. На очень далеком правом берегу еще белел то ли снег, то ли лед. Карты у нас не было, но мы знали, что находимся в нескольких сотнях километров севернее Полярного круга. Нужно было привыкать ко многим странностям и трудностям, с которыми мы столкнулись не только по прихоти властей и каких-то прохвостов, но и по воле самой природы. Первое время нас мучило солнце, которое никак не хотело уходить за горизонт, а без устали ходило по кругу днем и ночью. Только днем оно поднималось выше, а ночью катилось над лесом, и казалось, что огненный шар вот-вот подожжет верхушки елей на противоположном берегу Енисея. В первое время мы не понимали, когда день, когда ночь, но постепенно привыкли. Время адаптации у всех было разным. Я привык очень быстро.
Человек ко многому может привыкнуть. И мы должны были привыкать, хотелось нам того или нет. Мы еще не знали, что нам придется привыкнуть не только к полярному дню, но и к полярной ночи. И к страшному холоду, сырости, тяжелому, часто напрасному труду. Если не привыкнуть, то хотя бы смириться. Смириться с клопами, которые уже через несколько дней после нашего появления стали вылезать из всех щелей. И это в доме, который пустовал десятки лет, продуваемый всеми ветрами и промороженный пятидесятиградусными морозами. Клопы напали на нас со всех сторон, плоские, прозрачные, злые и голодные, как волки. Война с ними продолжалась все время, пока мы жили на Сопочке.
Но страшнее клопов были летающие насекомые. Комары, которые напали на нас в первый же день, доставляли нам адские мучения. Но комар был зверь, знакомый еще с детства, правда, лишь в качественном смысле. Но в количественном! Даже сейчас страшно вспомнить о тех тучах комаров. Однако через пару недель после комара появилось существо, до сих пор нам еще незнакомое, - мошка. Это страшное насекомое! Комар тоже не исчез и продолжал жалить, но мошка была намного страшнее. Она ползала по одежде и залезала под нее. Даже накомарник не помогал. Мошка не жалила, а выкусывала кусок кожи и впускала в тело яд. Укушенные места распухали, тело покрывалось нарывами.
Пришлось смириться с мыслью, что вернуться на родину этим летом нечего и надеяться. Заброшены мы были так далеко, что выбраться отсюда трудно даже летом, не только зимой, до которой, по рассказам местных жителей, было не так уж и далеко. А зима, как здесь шутили, длилась тринадцать месяцев.
Нас, латышей, на Сопочке было человек двадцать. Шесть подростков, остальные женщины. Немцев было столько же, но они были целыми семьями. И немцы, и финны, и молдаване, и калмыки были сосланы семьями, только мы были разделены с мужчинами и до сих пор ничего о них не знали. Мы не знали, что уже минувшей зимой большая часть из них была уничтожена в страшном лагере смерти - Вятлаге, на севере Кировской области. Многие были расстреляны, другие погибли от голода, от холода, от болезней. Процесс уничтожения латышских мужчин продолжался и в 1942-м, и позже, но об этом нам стало известно не скоро.
Мы, подростки, были в том возрасте, когда ты готов ко всему, что происходит. Когда не очень "берёшь в голову" все, что случается, не очень задумываешься о завтрашнем дне. Было лето, светило солнце, притом - круглые сутки. Вокруг была дикая, но прекрасная природа. И была девушка, которая мне нравилась...
Многое исчезло из памяти, но первое лето и первая зима в Сопочке мне помнятся очень ясно. Со старой, давно исчезнувшей избой на высоком берегу Енисея связано много прекрасных воспоминаний. Юность есть юность, где бы ты ни находился, и мы, конечно, все воспринимали иначе, чем наши матери, которые более остро и ясно понимали безысходность ситуации, в которой мы оказались.
Я, как и большинство мальчишек в детстве, мечтал о приключениях. Мой любимый писатель был Джек Лондон, очень нравился Фенимор Купер, Сетон-Томпсон. Незадолго до ареста прочел "Дерсу Узала" Арсеньева и прекрасные "Охотничьи рассказы" Виталия Бианки. Недавнее путешествие по красивой огромной реке уже само по себе было приключением, а теперь эта одинокая изба на берегу реки, тайга, тундра с черными, таинственными озерками, и вокруг, насколько хватало глаз, никакого признака цивилизации (Плахино, расположенное в девяти-десяти километрах от Сопочки, находилось за поворотом реки).
При чтении этих строк может показаться, что мне теперь, на расстоянии лет, все кажется более романтичным и прекрасным. Это не так. В своих воспоминаниях о первом лете и зиме в Сопочке я опираюсь на сохранившиеся записи тех лет. И стараюсь по возможности не менять написанного, оставляя "за кадром" только сентиментально-интимное.
Первая встреча с местным взрослым населением состоя-лась на следующий день. На лодке из колхозного центра, на-ходившегося в селе, или, как здесь говорили, в станке Плахино, приплыл председатель колхоза и несколько женщин. Теперь уже трудно сказать, сколько в Плахино было домов, может быть сорок, может быть пятьдесят, но был и клуб, и школа (кажется, четырехлетка). По местным меркам это был большой населенный пункт. На полпути между Сопочкой и Плахином находилась "Коса" - песчаная отмель длиной километра в два, основное место лова. Здесь была "тоня" большого, километрового невода. Нескольких наших дам, самых сильных на вид, поставили к этому неводу. Мы с Янкой и наши матери стали работать на малом, двухсотметровом неводе. Нашими женщинами укомплектовали еще один малый невод. Остальных женщин и девушек отправили на какой-то остров косить сено.
Сначала к нам приставили местного парня, потом женщину, которые нас обучали, а через неделю-полторы мы стали рыбачить самостоятельно, без инструктора.
Большинство местного населения были так называемые "сельдюки". По национальности они были русские, но родились и выросли на севере. Их предки попали на север разными путями. Когда-то на север, спасаясь от преследования властей, уходили староверы и беглые каторжники. На север подались и просто искатели "доли", искатели свободы и счастья. На севере никогда не существовало крепостного права. У некоторых сельдюков явно проступало родство с представителями местных туземных племен. Многие сельдюки не выговаривали шипящих звуков, вместо «л» произносили «в». Прозвище "сельдюк" якобы произошло от знаменитой туруханской селедки. Эта мелкая, на нашу Балтийскую салаку похожая рыбешка еще в царские времена считалась деликатесом. Возможно также, что происхождение слова сельдюк как-то связано с названием одного из местных племен, селькупи.
Вторая категория местных жителей - раскулаченные в конце двадцатых - начале тридцатых годов и сосланные на север зажиточные крестьяне и их потомки.
Местные жители относились к нам по-разному. Кое-кто видел в нас таких же пасынков судьбы, какими были они сами, а кое-кто считал врагами. И здесь власти заранее настроили местное население против нас, как и в тех местах, где мы провели первый год ссылки. Была война, а мы были чужаки, инородцы. Латыши, немцы, какая разница! Русские часто во всех своих бедах обвиняли иностранцев.
Председатель колхоза Петров тоже был сельдюк, причем абсолютно безграмотный. Он умел только расписываться. Расписывался медленно, не отрывая перо от бумаги. Если по какой- то причине подпись не получалась за один прием, председатель начинал вычерчивать ее с начала. Но хоть неграмотным был Петров, но глупым не был. И злым тоже.
Из Игарки нас сопровождал «товарищ» в штатском. Может быть, он не был штатным чекистом, просто партийным активистом. Потом уже мы узнали, что к каждой группе ссыльных был прикомандирован какой-нибудь русский, иногда и девушки- комсомолки. Наш "пастух" был мужик ничего, только под носом у него всегда висела прозрачная капля. Недели через две он уехал. Караулить нас большого смысла не было: бежать отсюда было очень проблематично.
В первые недели погода стояла очень хорошая. Все свободное время, в ущерб сну, мы с Янкой посвящали обследованию окрестностей. Янка был из деревни и вначале ориентировался лучше меня. Нас всегда сопровождали Мишка и Шпанка. Северная природа очень отличалась от природы средней полосы Сибири. Сосна здесь не росла, росли ель и редко встречающаяся в Латвии лиственница. Изредка попадались кедр и пихта. Лиственные породы деревьев мало отличались от наших, знакомых с детства. Настоящий лес рос только вдоль берега. Дальше простиралась лесотундра с рассыпанными по ней озерками и болота. В прибрежном лесу было много ревеня. Лето только начиналось, но так как солнце светило почти круглые сутки, все росло не по дням, а по часам. Трава была уже нам по пояс.
Постепенно мы осваивали рыбацкое ремесло. Рыба в большинстве своем была невиданных, незнакомых пород. Самые интересные и вкусные были стерлядки и костерки - маленькие осетры. Вкус у них был специфический, не похожий на рыбий. Рыбы мы ели сколько хотели. Еду готовили на очаге, сложенном во дворе из камней. С первых же дней в Сопочке началось время, когда нашей основной, а временами и единственной пищей была рыба. Рыба утром, рыба в обед и она же вечером. Рыба, рыба и только рыба. Если она была. Если не было рыбы, не было и ничего другого. Такова была система оплаты труда.
Наша лодка и невод находились на Косе. Каждое утро из Сопочки мы шли туда, затаскивали просушенный на козлах невод в лодку, потом, проплывая вдоль берега, забрасывали невод в реку, из реки в лодку, опять в реку, опять в лодку, и так каждый день или каждую ночь, ибо не было никакой разницы между днем и ночью. Вода была ледяная. Тина, грязь на дне были еще холоднее, а мы - босиком. Когда ноги до колен увязали в ледяной грязи, дух захватывало. Местами под слоем грязи были камни, и ноги мы часто разбивали до крови. Нередко под водой попадались заполненные жидкой грязью ямы. Идешь и вдруг оказываешься по горло в вонючей ледяной жиже.
Только погода в первые недели, на наше счастье, в основном была хорошая. Солнце днем, когда стояло высоко, быстро нагревало прибрежный песок, в котором мы иногда грели заледеневшие конечности.
Со своим опытом начинающих рыбаков и мелкой снастью большого ущерба енисейской фауне мы нанести не могли. Часто мы вытаскивали совершенно пустой невод, порой только несколько мелких рыбешек трепыхались в сети. Мы завидовали рыбакам большого невода, которые ловили крупную и дорогую рыбу. Им попадались стерлядки и осетры метр-полтора длиной, огромная нельма. Однажды они поймали тайменя весом больше полутора центнеров. Он лежал на песке, как бревно. Голова желтая, сам до середины красный, хвост зеленый, зубы как у собаки. Вспомнилось, что в детстве я видел такого огромного сома в родном Екабпилсе. Пойманный местным рыбаком Шалугой сом лежал на прибрежном песке, там, где мы обычно купались.
Нас с Янкой, наверное, посчитали непригодными для работы на большом неводе. На нем работали самые здоровые местные женщины и парни, мужчины из немцев и несколько наших молодых женщин - Жения Витола, Марта Циелавиня, Рута Зиедыня. Местных парней в конце лета забрали в армию.
Иногда и нам везло, случалось поймать крупную рыбу. Доводилось и красную, и даже черную икру есть ложкой. Смешаешь в чашке икру с солью и хлебаешь, как кашу. Научились есть и свежую осетровую печень.
Большой невод работал круглые сутки, в две смены. Мы рыбачили по десять-двенадцать часов, когда везло, то и дольше. Часов ни у кого не было. О таких вещах давно позабыли. Потом развешивали невод на козлах и на носилках таскали рыбу на приемный пункт. Платили за рыбу по-разному. Самые дорогие были стерлядь и осетр - больше двух рублей за килограмм. Мелкая рыбешка - окуньки, плотвички и пр. - стоила двенадцать копеек. Удивительно, но все цены на рыбу хорошо сохранились в памяти. Добытая нашим, малым неводом рыба редко стоила дороже одного-полутора рублей. Система оплаты была следующая: за сданную на сто рублей рыбу платили семьдесят рублей деньгами и выдавали определенное количество так называемых рулонов - на муку, крупу, жиры, сахар и кое-какие «тряпки». Рулоны означали только право на приобретение соответствующего товара, за него тоже надо было платить. Денег обычно хватало хорошо если на половину продуктов. Чтобы выкупить хотя бы муку, приходилось продавать и жировые, и сахарные рулоны.
Путешествуя по Енисейскому северу в 1988 году, я встречался с рыбаками, приехавшими на лето из южных районов «за длинным рублем». Им за рыбу платили раз в десять больше, чем нам 45 лет назад.
На севере были тогда и единоличники. Эти люди не вступили в колхоз, продолжали рыбачить, зимой охотиться на свой страх и риск. Лодки и рыболовецкие снасти были у них свои. Жили в срубленных на берегах Енисея и на озерах избах с семьями, а кто и один. Этакий осколок ленинского нэпа, сохранившийся на севере. Подобный статус золотоискателя-единоличника на протяжении всех советских лет существовал на Дальнем Востоке. Индивидуалистов-единоличников обложили огромными налогами, но окончательно не разоряли, так как польза от них была очевидная. Все они были из когда-то сосланных на север кулаков и, наверное, из самых умных, упорных и жизнеспособных. В нашем регионе таких было десять-пятнадцать семей, и говорили, что от них государству пользы больше, чем от всего колхоза. Много лет спустя мне не раз приходилось спорить и с некоторыми сослуживцами, и с моими российскими родственниками, которые были убеждены, что именно колхозная система способствовала победе в последней войне. Я не мог их переубедить, доказывая, что, не будь колхозов, российский крестьянин полмира зерном бы засыпал, и не надо было бы покупать зерно за границей. При условии - не лениться. Но это уже другой вопрос.
Единоличники в основном рыбачили «переметами» и «самоловами». Перемет в принципе похож на знакомую каждому латышскому рыболову снасть - «ночной шнур», имеющий несколько крючков и забрасываемый обычно на ночь. Только перемет был более мощным, длинным и имел несколько десятков больших крючков. На них обычно насаживались «нюрники», живущие в тине береговых курганов (курганами там называли ямы, образующиеся весной в прибрежном песке от тающих ледяных глыб). Переметами ловили тайменя, налима и нельму. На самолов ловили осетра и стерлядь. В отличие от перемета, на самолове крючки были гладкие, без зазубрин и на главном шнуре размещены друг от друга на расстоянии полметра и ближе. Крючок должен быть очень острым. На жало крючка цеплялась пробка. Перемет с десятками крючков лежит на дне реки, пробки с воткнутыми крючками шевелятся, и глупые рыбы, играя пробками, сбивают их с крючков и те втыкаются в нее. Иногда в рыбу вонзаются по пять, по десять крючков. Очень часто рыба срывалась с крючков и от ран погибала. Теперь ловля самоловом запрещена, но в те времена никаких запретов не было. Каждый ловил, где хотел и как хотел.
Ясную погоду сменил дождь. Почти непрерывный дождь с холодным ветром. Что преобладало в то первое лето? Дождь, ветер и холод или "вёдро", как местные жители называли хорошую погоду? Сегодня, когда я вспоминаю первое лето на севере, больше помнится солнце и тепло. Но помнится и то, что две пары штанов сгнили буквально на мне. Возле маленькой железной печурки, которая всегда была обвешана мокрой одеждой, последняя только прела, и надевать приходилось такую же мокрую, только теплую. Многое из тогда пережитого теперь кажется невероятным, но, встречаясь и вспоминая прошлое с теми, с кем я тогда все это пережил, лишний раз убеждаешься, что так действительно было. И немногие сохранившиеся записи тех лет тоже подтверждают это.
В 1988 году, после возвращения из первой экспедиции по местам ссылки, я уже серьезно взялся за описание своих приключений. И не только своих. Перебирая записи, письма, документы, нашел тетрадь, про которую давно забыл. Это были записи о пережитом на севере в Сопочке. Это не был дневник, а скорее "проба пера" - очерки, эссэ. Тетрадь осталась у матери в Плахино, когда я, как и большинство депортированных детей, в 1947 году вернулся в Латвию. Я изредка продолжал писать и в Латвии, но все это пропало в связи с арестом в 1949 году. Тогда казалось, что нечего жалеть, что все осталось в памяти. Но это не совсем так. Не все можно восстановить по памяти.
Работая над книгой воспоминаний, я воспользовался и той единственной, с пожелтевшими страницами, сохраненной мамой тетрадью. В память о тех временах и давно ушедших друзьях я местами использовал старую тетрадь без изменений.
Никакой обуви не было. Взятая из дома была давно изношена. Целыми днями на холоде и на ветру, промокшие до нитки, босиком месили мы ледяную прибрежную грязь. От ветра, воды и едкой грязи на руках и ногах трескалась кожа. Руки всегда были в глубоких трещинах. Утром невозможно было разогнуть пальцы, пока в воде они не размокали. И такими руками при-ходилось тянуть грубые канаты и сети. Местные жители посо-ветовали мочиться на руки и ноги. Это немного помогало. И еще парафин с горящей свечи, залитый в трещины. Период дождей напоминал кошмарный бред. Казалось, этому не будет конца.
Но дожди все же кончились, и установилась сравнительно теплая, солнечная погода. Вода в Енисее нагрелась, даже купаться можно было. Мы с Янкой доплывали до красного бакена, установленного на якоре напротив Сопочки и обозначавшего фарватер для проходящих судов. Как мало в этом возрасте думаешь об опасности, угрожающей на такой огромной реке, на таком большом расстоянии от берега! Но мы же были ребята с Даугавы, научившиеся плавать, ходить и разговаривать почти одновременно. Распластавшись на нагретом солнцем железном бакене, стуча зубами от холода, мы во все горло орали: «.. .мы - латышские босяки, нам не страшны русские комары! Крам-бам-бам-бам-бамбули, чтоб подрал их черт!...» и другие, трудно переводимые латышские песни антисоветско-русского содержания, каких очень много появилось и пелось в первый же год советской оккупации (не будем лукавить - русской оккупации). На горячем бакене, далеко от берега, не было ни комаров, ни мошек, ни коменданта, ни прочих пакостей. Только «.. .море, солнце и ветер...», как в старинной песне латышских мореплавателей.
При сильном ветре Енисей бушевал, как море. В такую погоду нельзя было рыбачить, и мы с Янкой бродили по тайге и тундре.
Морошку гребли ладонями. Только комары и особенно мошка отравляли жизнь. Чтобы засыпать ягоды в рот, надо было поднять сетку, и тогда в рот попадала ягода пополам с мошкой. Мелкий гнус пролезал даже сквозь сетку. Мошкара всегда находила лазейку. Еще не познав всю степень вероломства этой твари, мы как-то перед очередным походом туго перевязали рукава и брюки на щиколотках. Через некоторое время почувствовали жжение и боль в перевязанных местах. Когда дома разделись, оказалось, что в перевязанных местах всю кожу изъела мошка. Самым лучшим средством, избавляющим от последствий укусов, была баня или хотя бы горячая вода с мылом, но, разумеется, сразу после укусов. Если такие меры вовремя не принять, начинало лихорадить, искусанные места распухали, образовались нарывы. Так как баня отсутствовала и с мылом тоже была "напряжёнка" и даже горячая вода была доступна с большим опозданием, то нам пришлось испытать все выше перечисленные последствия укусов. Не на всех укусы влияли одинаково, но многие ходили распухшие или покрытые нарывами. Я тоже часто ходил с распухшим лицом и в нарывах. Но интересно, что спустя много лет, во время походов по Карелии, Полярному Уралу и по уже знакомому Таймыру, на меня укусы комара и мошки уже не действовали так жестоко, как в юности. Меня, конечно, кусали, но без таких страшных последствий.
В прибрежном лесу приходилось пробираться сквозь заросли красной и черной смородины. На каменистом берегу рос дикий лук. Выше, около самого леса, рос ревень. После морошки, которую собирали в тундре, в лесу поспевала черника, в конце лета брусника, а на болотах мелкая клюква. Так что витаминами мы запасались изрядно. Щедра была северная природа, только лето было очень короткое.
Однажды, когда Енисей в очередной раз бушевал и рыбачить было нельзя, все женщины ушли по ягоды, а мы с Янисом взяли две простыни, соорудили что-то парусоподобное и направились на противоположный берег, скалы которого и белеющий в их расщелинах снег и голубой лед нас манили постоянно. Река в этом месте была очень широкой, и скоро мы осознали опасность нашей затеи, но никто первым не хотел в этом признаваться. Однако цели мы все же достигли. Нашли сравнительно тихую бухточку, полазали по береговым скалам, полюбовались летним льдом и снегом и, отдохнув, двинулись в обратный путь. Матери, конечно, были в отчаянье. Такие вылазки «под парусом» мы потом совершали еще не раз. В этом проявилось присущее нашему возрасту удальство, безрассудство, когда кажется, что с тобой ничего никогда не случится, что ты бессмертен. Но не слышно было, чтобы кто-то из наших погиб по своей вине. Были случаи, когда тонули. На Маховских озерах утонуло сразу несколько человек ссыльных. Поздней осенью и зимой замерзали, проваливались под лед, терялись, заблудившись в тайге и тундре, пропадали без вести. Кого-то зверь задрал. Иногда такие вести доходили до нас. А сколько умерло с голоду! А кто виноват? Вопрос типично русский. Виноватых нет.
Описывая это приключение, я стал вспоминать - плавал ли тогда в тех местах кто-либо под парусом? Как ни напрягал память, такого вспомнить не смог, за исключением наших с Ян-кой дилетантских опытов, и это меня сейчас удивляет. Лодочных моторов тогда там тоже не было, и единственным способом передвижения была лодка на веслах или "бичевой", когда лодку волокли вдоль берега на веревке. Тягловой силой в основном были собаки, но нередко и жены... Есть такой анекдот: мужик сидит на корме лодки и рулит, а жена по берегу тащит лодку бичевой. Мужик спрашивает: «Устала?», жена отвечает: «Устала». Мужик: «Садись, погреби». Жена садится за весла, мужик, как прежде, за рулем. Через некоторое время мужик опять жене: «Устала?», жена: «Устала». Мужик высаживает жену на берег и говорит: «Походи маленько бичевой».
Словом, рыбы мы ели, сколько хотели. Каждый день после работы приносили в Сопочку рыбу, притом самую хорошую. Случалось нам с Янкой красть и осетра, пойманного большим неводом и уже сданного приемщику. В ненастье, под шум дождя и ветра, когда приемщик сидел в своей будке и пил водку... А в конце июля и ночью уже несколько часов было темно. «Воровской час».
В конце лета объявили, что каждому рыбаку на прокорм полагается не больше двухсот граммов рыбы в день. Из Игарки контролировать исполнение этого приказа приехал уполномоченный - милиционер. Когда повариха, готовившая еду для рыбаков большого невода, отбирала рыбу, милиционер проверял, не взяла ли она больше положенного. Он ходил по окрестностям с ружьем, шастал по берегу, разнюхивая, не жарит ли кто тайком рыбу в кустах. Но уследить за всеми было трудно. Рыбу воровали и ели. Воровали сами у себя. Идиотизм, порожденный колхозной системой.
В середине августа стала ловиться знаменитая туруханская сельдь. Это была рыбка величиной с нашу балтийскую салаку, но жирная и с явно выраженным вкусом и запахом селедки. Мы научились есть ее в сыром виде тут же в лодке. Пальцами сотрешь чешую и съедаешь спинку. Остальное - за борт. На противне ее жарили в собственном жиру и съедали целиком, с головой и хвостом и со всеми внутренностями. А внутри у нее была только тоненькая, еле заметная в жире кишка. Рассказывали, что туруханская селедка славилась еще в царские времена, когда предприимчивые люди ехали на север с полными бочками соли, но только на лето. Осенью они возвращались с бочками, набитыми рыбой, и всю зиму жили припеваючи. Но это было в старые времена. А нам за такое богатство платили жалкие гроши и еще следили, как бы мы лишний грамм не съели.
Но мы, конечно, плевали на все запреты, и каждый день несли к себе в Сопочку рыбу. Время светлых ночей кончилось, и с Косы в Сопочку мы возвращались уже в темноте. Трудно было нас контролировать. Так мы считали. Но скоро нам пришлось убедиться в своем заблуждении.
Теперь трудно представить, что ели мы только рыбу и хлеб. Много рыбы, мало хлеба. И не надоедало. Колхоз сажал картош-ку тоже, но ее, как местные жители рассказывали, иногда вырастало меньше, чем посадили. Но в то лето картошка удалась, и она тоже стала объектом нашего внимания. Осенью мы рыбачили во второй половине дня и почти всю ночь, потому что тогда лучше ловилось. На берегу, напротив мест, где мы рыбачили, были колхозные картофельные поля. Иногда мы приходили туда с "ревизией", не чувствуя при этом ни малейшего угрызения совести. Мы у государства брали только немножко, а государство, притом чужое, у нас отобрало все. Можно возразить, что мы крали не у государства, а у колхоза, т.е. как будто бы у народа. Глупости! Все принадлежало государству. Колхозники получали только то, что государство им бросало, как подачку.
Чем ближе подступала зима, тем труднее и было рыбачить. Вода становилась все холоднее, непрерывно дул пронизывающий ветер. Особенно холодно было ночью, но и рыба лучше ловилась ночью. Наступила осень - время налима. Самые большие уловы приходились на ночь. Мы прикрепляли на носу лодки изготовленную из железных обручей корзину, в которой разводили костерок для привлечения налимов. Попадались очень крупные экземпляры, по пятнадцать, двадцать килограммов. Но невод был старый, гнилой и большая рыба часто уходила. Обычно это случалось, когда мотня невода уже была около самого берега, и тогда мы бросались в воду, стараясь руками поймать вырвавшуюся рыбу. Совсем не просто было справляться с речными обитателями. Иногда попадались таймени с большими и острыми, как у собаки, зубами. Эта была настоящая и опасная охота. Азартной и ловкой была мама. Рыбе редко удавалось вырваться из ее рук.
Иногда приходилось полдня чинить рваный невод, а вече-ром снова спускать лодку и рыбачить. Но были случаи, когда наши матери нарочно рвали невод, чтобы нам с Янкой не мерзнуть, не залезать опять в холодную воду... Уполномоченный гонял нас безжалостно, но не ловить же разорванной сетью! Сам в сапогах с голенищами и в дождевике, а мы кто в чем горазд. Женщины кутали ноги обрывками старых сетей, мы с Янкой босиком. Помню, как однажды речники с дрейфующего напротив Косы судна решили купить на берегу рыбы. Они были в теплых тужурках и в длинных сапогах, на голове ушанки. С ужасом смотрели они на наши босые красные ноги. Мы смеялись, мол, привыкли. Моряки только головами качали. Как-то ночью вылезли мы из лодки, а песок словно посыпан солью. Поняли, что не соль это, просто песок сверху подморозило. Побежали в Сопочку по замерзшему песку. Зато налим пошел косяком, и надо было ловить, даже если никто и не погонял. Не поймаешь рыбу, никто тебе ничего не даст. «Зубы на полку».
Вот и снова приходится писать о воровстве. «Из песни слова не выкинешь». Уж очень вкусная была «макса» - налимья печень. Огромная. От местных мальчишек мы научились доставать печень, не разделывая рыбу, через жаберные щели. Для компенсации веса запихивали в рыбий живот мелкую, дешевую рыбешку. Макса была большая, занимала весь живот, и ее отсутствие было бы заметно. Местные в пустой налимий живот запихивали даже песок и камни, так как рыбу брали неразделенной. Ее бросали в большие, заполненные крепким рассолом резервуары. Через каждые два дня на третий из Игарки приходил катер с баркасом и забирал улов. Мы так не жульничали, так как сдружились с приемщиком рыбы и не хотели, чтобы у него были неприятности, когда на рыбозаводе в Игарке в животе у рыбы вместо максы обнаружат песок. Приемщик рассказывал, что когда-то работал вместе с латышами и очень их уважает. Как сам он оказался на севере, кто знает! Подобные вопросы тогда не принято было задавать.
Максу мы жарили и солили. Это был настоящий деликатес. Сейчас только диву даешься, как могли мы поглощать чистый рыбий жир, да еще в таком количестве.
В Сопочку мы таскали рыбу каждый день, не очень рекламируя, но и не особенно скрываясь. Двухсотграммовый ажиотаж уже закончился. По своей наивности мы и не думали, что совершаем какое-то страшное преступление. Ведь рыбу мы ловили сами. Каждый уже успел насолить пару десятков килограммов. Бочек у нас не было, солили рыбу в ящиках, всу-хую. Было уже довольно холодно, а в сухом континентальном климате рыба быстро не портится.
Уполномоченный жил в Косе и в Плахине и нас как бы не замечал. Во всяком случае, мы так думали.
Однажды ночью мы с Янкой с мешками за спиной, шагали в Сопочку. Было полнолуние. Двигались мы по берегу в тени кустарника. Внезапно в каких-то ста метрах на повороте тропы появился человек. Мы его сразу же узнали по форме и винтовке через плечо. В свете луны уполномоченный был хорошо виден, а нас в тени кустов он не заметил. В мгновение ока мы нырнули в кусты и затаились примерно в полуметре от тропки.
Милиционер шел насвистывая и, - невероятно, но факт, - дойдя до нашего укрытия, остановился, бросил винтовку на песок и, приспустив галифе, присел на корточки. В полутора метрах от нас. Мы не дышали. Сделав свои дела, он перед самым моим носом содрал с куста пучок листьев, привел себя в порядок и направился дальше в Косу. Выждав немного, и мы продолжили свой путь.
Мы догадались, что милиционер в Сопочке что-то вынюхивал. Наши рыбные запасы хранились возле дома под навесом, там даже дверей не было. Рассказали обо всем остальным и решили, что рыбу надо спрятать в лесу. А на следующее утро к нам на лодке приплыл уполномоченный и с ним председатель сельсовета Федосеев. Нам велено было отнести ящики с рыбой вниз и погрузить их в лодку. Когда мы несли ящики, оба с Янкой таскали из них рыбу и бросали на радость Мишке и Шпанке. Но и нам позже удалось кое-что подобрать. Рыбу распорядились отвезти в приемный пункт, где ее приняли и даже заплатили, как обычно. Арестовали только двух наших женщин. Их осудили, и обеим дали по пять лет. Одна работала поваром в бригаде большого невода, и ее судили за то, что она якобы обкрадывала рабочих, воровала рыбу, предназначенную для их пропитания. Вторую за то, что она с поваром вела общее хозяйство, вместе ела и пр. Что с ними стало потом, я не знаю. У немцев ничего не нашли. Мы удивились, так как знали, что и они рыбу солят.
Все закончилось тем, что наш друг приемщик рыбы (если не ошибаюсь, фамилия его была Токарев) тоже ездил в суд, который состоялся в Игарке, и, когда ему предоставили слово, сказал, что суд должен выяснить, какой подарок уполномоченный привез своей жене. В квартире милиционера тут же провели обыск и нашли два чемодана с самой дорогой рыбой. Милиционера осудили на десять лет. Очевидно, он не успел поделиться своими запасами с начальством.
Становилось все холоднее. Уже чувствовалось дыхание зимы. Ветер не утихал. Дуло не так сильно, выходить на лов можно было, однако промораживало нас насквозь. Часто лил дождь или шел мокрый снег. За целый день мы промокали до нитки - мочило и сверху, и снизу. Поздней осенью нам выдали обувь. К высоким брезентовым голенищам были приделаны толстые деревянные подошвы. Ходить в таких сапогах было трудно и даже опасно. Вода на дне лодки замерзала, и мы на своих деревянных подошвах спотыкались и падали, ежесекундно рискуя оказаться за бортом. Забивали в подошвы гвозди, но это плохо помогало. Если шли по песку, он примерзал к подошвам, как мокрый снег к лыжам, и корку приходилось непрерывно сбивать палкой. Брезент пропускал воду, портянки примерзали к сапогам. А ноги!.. И так каждый день. Каждый день!
Сегодня трудно поверить, что так было на самом деле, что это действительно происходило со мной. Может быть, это был только дурной сон? Лишь при встрече с бывшими товарищами по промыслу, которых можно уже пересчитать на пальцах одной руки, вспоминая те времена, я лишний раз убеждаюсь - да, так действительно было.
Шла война. Но разве не менее ужасным было то, что пере-жили женщины и дети в сибирской ссылке, не говоря уж о том, что приходилось терпеть заключенным в советских лагерях смерти? Кто и как может это сравнить?
Всех бывших северян уже в зрелые годы мучили ревматические боли, другие болезни. Почти все в юности потеряли зубы, многие стали инвалидами в сорок пять - пятьдесят лет. Но они не были настоящими инвалидами, потому что пока другие воевали, они «отдыхали» на сибирских «курортах». И не было у них медалей, звеня которыми они могли бы лезть без очереди за колбасой, к врачу или за квартирой. (Было это не так давно, в 1988 году, когда я пишу эти строки.)
Была уже настоящая зима, землю укрыл толстый слой снега, а мы все еще ловили, потому что Енисей не замерз. Брели по заснеженному берегу или по ледяной шуге. Лодки и внутри и снаружи покрывались наледью. Сети замерзали и оттаивали только в воде. Закончили ловить, когда прибрежный лед стал слишком толстым, и по ледяной каше пройти уже было невозможно.
Снегу намело много. Прибрежный лед был шириной уже метров десять-двадцать. Суда совершали последний рейс и стремились как можно быстрее зайти в порт, чтобы не вмерзнуть в лед где-нибудь в безлюдном месте. Лов закончился. Мы отвезли снаряжение в Плахино, а сами стали ждать дальнейших распоряжений. Мы были счастливы. Наконец можно отдохнуть.
Последние недели были ужасными. Да и не ловилось ничего. Даже на еду не хватало. Но мы не голодали, так как еще осенью нам выдали немного завезенной с юга картошки и капусты.
Наши дамы по большей части спали или чинили белье, ком-бинировали из остатков какую-то одежонку. Ужасались приходу зимы, потому что надеть было нечего, обуви тоже не было. Когда летом нас высадили на набережную Сопочки, многие надеялись покинуть эти места до снега, хотя нам еще в дороге сказали, что нас высылают на север на постоянное место жительства, а не только на летний сезон, как говорили вначале.
Мы с Янкой и Дзидрой бродили по тайге и прибрежным зарослям в поисках красной смородины, подмороженная, она заменяла конфеты. Листья облетели, и красные ягоды видны были издалека. Рябина тоже была вкусная.
Каждую ночь ясное небо озарялось северным сиянием. Это была невероятная, невиданная картина. Вспомнилось, что в последнюю зиму на горизонте к северу от Екабпилса тоже видны были сполохи. Бабушка сказала: «Это к войне». А здесь, за Полярным кругом северное сияние растекалось по всему небосводу. Временами сполохи перекатывались как волны, как кулисы над сценой, временами сияние разливалось по всему небесному своду, и казалось, что ты, человек, стоишь под огромным куполом собора и где-то далеко-далеко звучит орган. И сердце странно щемит. Вокруг тишина, только северное сияние мирно шелестит и от реки еле слышно доносится игра воды и шуги...
Морозы усиливались, и только ветер не давал реке замерзнуть. Стал Енисей в первую безветренную ночь. Во всю свою ширь. Лед был как зеркало. Через несколько дней, когда толщина льда достигла уже трех-четырех пальцев, вверх по реке прошли несколько запоздалых судов, оставляя за собой проломанный во льду коридор. Притихший на пару дней ветер задул вновь и взломал оставшийся лед. Но мороз стоял крепкий, и река снова замерзла. Только лед уже не был гладким. Глыбы льда громоздились друг на друга и смерзлись. Образовались торосы. Некоторые куски льда были такой величины, что их распиливали и мокрым снегом лепили на окна, чтобы сохранить тепло.
Вспомнилась моя Даугава. Редко покрывалась льдом она сразу и во всю ширь. Обычно вдоль берегов намерзала широкая полоса льда, а посередине, где течение быстрее, долго не хотела застывать. И тогда мужчины ломами откалывали от берегов полосу льда шириной метров двадцать и длиной в полширины реки. После чего одновременно в двух сторон отталкивали отколотые льдины от берега. Дальше река действовала сама. Уносимые течением куски льда соединялись краями, и поперек реки возникал мост. Через несколько дней по нему уже ехали повозки, запряженные лошадьми. По краям льдины втыкали елки, отмечавшие путь. Полностью Даугава замерзала лишь спустя некоторое время.
Началась полярная зима, а с нею и зимние работы. Долго отдыхать нам не дали. Дамы наши перебрались жить в Плахино, ближе к зимним местам лова. Меня и Янку колхозное начальство определило в охотники, и мы остались в Сопочке. Здесь же осталась и госпожа Шмит с дочерью Дзидрой - охранять бригадное имущество. Новое назначение обоим было по душе. Нам выдали двадцать больших и сорок маленьких капканов. Большие на лисиц и зайцев. Про этих зверей мы кое-что знали, но знания наши о тех зверьках, для кого предназначались маленькие капканы, были никакими. Слышали только, что из горностаевых шкурок королям шьют мантии. Приемщик, который считался также инструктором, об охоте знал столько же, сколько и мы, а сельдюки из суеверия не раскрывали нам тайны охотничьего искусства. Потом мы узнали, что даже своим детям они открывают тайну только на смертном одре. Каждый должен был научиться всему сам, методом проб и ошибок.
Единственным, кто нам кое-что рассказал и кое-чему научил, был радист Селезнев. В те времена на севере всякое общение происходило по радио. В каждом мало-мальски обжитом месте был радиоприемник и передатчик, который обслуживал радист. Ближайшая к Плахино радиостанция была в Игарке, примерно в 100 километрах к югу от нас. Между Плахино и Игаркой было всего несколько населенных пунктов с парой десятков жителей да пара рыбацких хижин. Северное направление было окутано дымкой неизвестности. Мы даже не знали о трагедии, которая еще осенью произошла на другом берегу Енисея, километрах в двенадцати от Плахино. Там от голода и холода умирали женщины и дети.
Селезнева прислали сюда из Ленинграда по комсомольской путевке. Профессиональным охотником он не был, но за годы пребывания на севере кое-какие навыки освоил и все, что знал, рассказывал и показывал нам. Волнение наше по поводу зимней одежды оказалось напрасным. Нам выдали ватники и валенки. Ватные фуфайки и штаны были пошиты из белой марли и уже через несколько дней стали похожи на нечто, не поддающееся описанию. На кустах, сквозь которые мы продирались, оставались клочья ваты из нашей одежды, особенно из моей и Янки. Рыбачки по кустам не лазали. Но как бы то ни было, все же какая-никакая, а одежда. Фуфайки быстро запестрели разноцветными заплатами и напоминали связанные бабушкой в Екабпилсе лоскутные коврики.
Капканы ставили, как умели, но зайцы попадаться в них не хотели, перепрыгивали или петляли вокруг. И хотя глаза у зайца смотрят каждый в свою сторону, в чем мы убедились, поймав первого, однако были они зоркими. Рассказывают, правда, что заяц, удирая в смертельном страхе, в прыжке разбивал лоб о дерево - и готов! Но это, конечно, охотничьи байки. Мне подобного видеть не довелось.
Первым зверем, который попался в наш капкан, был большой белый приблудившийся
пес Мишка. В начале зимы, когда снежный покров был еще неглубоким, Мишка бегал
за нами, как привязанный. Мы только-только вернулись из лесу и уже открывали
дверь, как услышали доносившийся издалека жалобный собачий вой. Бросились
обратно в лес. Мишка выл и скулил, попав передней лапой в капкан. Я накинул псу
на шею ремень и привязал к росшей неподалеку березе. Янка освободил собачью
лапу. Она была цела, но Мишка был так зол, что, когда мы его отвязали, всю свою
злость он обратил на ближайшую елочку, которую грыз до тех пор, пока не сломал.
Следующей ночью в капкан попался заяц. Распевая победные песни, мы потащили
свою первую добычу домой. Связав зайцу ноги и подвесив на шест, тащили его
вдвоем, как таскали когда-то наши предки оленей и медведей. В дверях дома стояла
Дзидра и смеялась.
И хотя нам было строго приказано сдавать не только шкурки, но и мясо, свою первую добычу мы решили съесть. Кто здесь мог нас проконтролировать? «Закон - тайга, прокурор - медведь». Такая была здесь в ходу поговорка. Мы и потом государство мясом не баловали.
Закатав рукава и наточив свои охотничьи кинжалы (укра-енные летом в Косе), принялись свежевать добычу. Будь заяц размером с теленка, вероятно, шкуру с него мы сдирали бы дня три. В конце концов, до мяса мы добрались, но шкурку разорвали в клочья. Труднее всего было справиться с головой. Но, как бы то ни было, вечером мы лакомились тушеным зайцем.
Снежный покров становился все толще. Когда снегу навалили по колено, без лыж было уже не обойтись. Пришлось пожалеть, что оставил лыжи в Куличках. Но как-то вечером мы принялись за дело. Единственными инструментами были топор и ножи. Взяли две доски из наших нар и несколько вечеров тесали, скребли и выжигали, пока не смастерили одну пару. Доски были толстые, и концы мы просто-напросто вытесали, так как не знали, как их загнуть. Закончив работу, этой же ночью решили лыжи опробовать. Лыжи даже с горы не хотели скользить, а по ровному месту вперед двигаться можно было, только высоко поднимая ноги. Успокаивали себя, зато, мол, когда взбираешься в гору, лыжи не скользят назад. Примерно через неделю скользить они стали лучше, а через некоторое время мы уже бегали по лесу, как олени. Вскоре смастерили и вторую пару.
Со временем, набравшись опыта в ловле зайцев, приносили иногда по тушке. Научились маскировать капканы, натирали их хвоей, чтобы зверьков не отпугивал запах металла или какой-то еще. Ставили капканы на проложенных зайцами тропах. Маленькие капканы предназначались для горностая и колонков - коричневых зверьков, похожих на хорьков, сибирских куниц. Но мы даже не знали, какие следы оставляют эти зверьки на снегу. При виде маленьких следов мы расставляли вокруг маленькие капканы. Когда во время очередного посещения Плахино в клубе мы встретились с местными мальчишками, они стали над нами смеяться - оказалось, мы ставили капканы не на следы горностая, а на следы полярной куропатки. Кто-то из ребят сходил на наши охотничьи места. Мы такого издевательства стерпеть не могли и бросились в драку. Но настоящей драки не получилось. Мы толкали друг друга, потом образовалась куча мала, как в регби. К лету мы не то чтобы подружились с местными ребятами, но как-то свыклись и, сколько помнится, между нами не возникали какие-то межнациональные разногласия. Нож у каждого из нас всегда был у пояса, но никому и в голову не приходило им кому-то угрожать. Нож был рабочим инструментом. И ничем другим.
Ребята как ребята. Всякие были. Когда все смеялись над нашей промашкой, лишь двое - Василий Баяндин и Сергей Сорокин - встали на нашу сторону, сказав, что мы же не виноваты, что ничего не знаем, и нам надо помочь. На следующий день оба пришли в Сопочку и показали, как надо ставить капканы на маленьких хищников. Надо было насыпать холмик из снега, специальной узкой лопаткой выкопать в нем горизонтальную щель, положить туда приманку. При входе в пещерку следовало поставить капкан, хорошенько его замаскировав. Дело осложнялось еще и тем, что приманкой служило тухлое мясо или рыба. Мы принялись вырубать вонючие рыбьи внутренности из выброшенных на свалку летом.
Летом и особенно осенью мало кто из наших местных сверстников работал на таких тяжелых работах, как мы. Они или ловили рыбу на самолов или другую снасть и продавали улов на проходящие мимо суда (что было строго запрещено), или бродили по тундре, охотясь в тамошних озерах на уток и гусей, собирали ягоды или просто бездельничали. Зимой, правда, все они охотились. Охота была в чести. Каждый охотник гордился своим занятием. Охотники сдавали в госказну «мягкое золото» - звериные шкурки. Это была валюта, так необходимая особенно в военное время.
Через год или два почти все наши сверстники ушли воевать. И почти все погибли под Сталинградом. Молодые ребята. Вернулось несколько человек из более раннего призыва. Вероятно, и на войне свою роль играл «синдром бессмертия», присущий молодости.
Становилось все холоднее. Морозы порой достигали 50-60 градусов по термометру Селезнева. Когда на таком холоде выдохнешь, слышится словно бы звон мелких стекляшек. В такие дни над Енисеем стоял густой туман. С осени я каждое утро полуголым выбегал на улицу и натирался снегом, как делал это в последнюю зиму дома с отцом и иногда в Куличках, когда выпадал чистый снег. На севере эту процедуру пришлось прекратить. Когда ударяли сильные морозы, снег превращался в ледяные кристаллы, которые царапали кожу, оставляя на ней порезы, как осколки стекла. Да и ветер был такой ледяной, что голышом из дома и носа было не высунуть.
Лютые морозы периодически сменялись пургой. После первой же пурги мы лишились половины наших капканов. Нам и в голову не пришло каким-то образом отметить их местонахождение. Понадеялись на следы и знакомую местность. А это оказалось то же самое, что поставить капкан «напротив Луны». После метелей от следов ничего не осталось. Незнакомыми казались все деревья и пни, все пригорки и ручьи.
В нашей будке было нещадно холодно. Она стояла на высоком обрывистом берегу, подвластная всем ветрам. Ее не заносило снегом, потому что ветер сдувал весь снег. Комната была большая, потолок высокий. Мы его, правда, перекрыли досками, утеплили сеном, опустив наполовину, но хоть печурка и топилась круглые сутки, мерзли мы, как тараканы. Даже клопы утихомирились. Когда мыли пол, он превращался в каток.
Но как бы то ни было, эта первая зима за Полярным кругом была самой славной, самой безбедной и самой сытной по сравнению с последовавшими за ней.
Паек охотникам выдавали, можно сказать, богатый. Килограмм хлеба на день, по килограмму масла и сахара на месяц, крупу, макароны, папиросы и табак. Мы с Янкой еще летом начали покуривать, и когда нам выдали авансом курево в надежде, что в обмен получат от нас шкурки, пришлось курить, хочешь не хочешь. Мы уже знали, что самая лучшая махорка Канская и Маршанская, знали, что, сворачивая цигарку из «Правды», надо рвать газету поперек строк, а если из «Красноярского рабочего» - то вдоль.
Осталось еще немного капусты, так что «клевать» в первую зиму было что. Но помнится мне, что есть хотелось постоянно и сильно. Когда в первый раз нам выдали по килограмму масла и сахара, мы их съели за несколько дней, сами того не заметив. Съесть буханку хлеба в один присест, да еще с маслом, да еще с сахаром, сущий пустяк. Хлеб нам выдавали на полмесяца. Мы хранили его, заморозив, а когда надо было, размораживали. Система эта предохраняла хлеб от быстрого исчезновения.
Всю провизию выдавали авансом. В эту первую зиму нам действительно везло. Везло не на охоте, но не приходилось голодать, выполнять тяжелую работу, если не считать работой десятки километров на лыжах ежедневно и заготовку дров.
Помнятся зимние вечера, когда на улице воет метель и небо сливается с землей. Мы сидим у горящей печки, я рассказываю прочитанные когда-то книги. В свои пятнадцать лет я успел прочитать много. Всего Сенкевича, Купера, Грина, Джека Лондона, Майн Рида, Карла Мая и несчетное количество лубочной литературы. Приключенческие романы Эдгара Уоллеса, Олд Ваверли, приключения Фантомаса и многое другое. Много хорошего, но много и чепухи. Но все пригодилось. Рассказывать мне нравилось. Кое-что я добавлял и сам.
Мы сидим вчетвером у печки при свете свечи, как наши предки. Наконец мы с Дзидрой остаемся вдвоем. Сидим в темноте, накинув какую-то одежонку на плечи, тесно прижавшись друг к другу, не опасаясь, что в темноте нас может увидеть мать Дзидры. Мы сидим и молчим, слушаем, как за стенами воет буря - двое латышских детей, которых жестокая судьба унесла за тысячи километров от родины. Суждено ли нам вернуться? Я слышу тихий шепот: «Все равно где, только бы с тобой...». И я счастлив.
Пурга не утихает целую неделю, и мы с Янкой почиваем на лаврах. В такое время бессмысленно ставить капканы - все зайцы спят. Спим и мы. Днем спим, а ночью в доме все вверх дном. Веселимся, поем, танцуем, немцы за стеной недовольны. Мы терпеть не можем этих заносчивых советских немцев, хоть они наши товарищи по несчастью.
Спим до обеда. Все равно темно. Как-то утром, когда я уже проснулся и валяюсь один в постели, потому что Янка колет дрова, а Дзидра ушла за водой, ее мать произносит: «Не думай, что у меня нет глаз. Все вижу и понимаю, что с вами происходит, и боюсь, что это может зайти слишком далеко. Я хочу, чтобы ты дал мне слово, что не случится ничего такого... ничего такого...» Она замолкает. Я чувствую, как кровь стучит в висках, чувствую, как краснею так, что пылают уши, и словно бы издалека слышу собственный голос: «Обещаю». Потом я одеваюсь и весь день брожу по лесу.
В конце месяца, расправившись со своими продуктами, мы с Янкой уходили в Плахино к мамам. Они рыбачили. По осени рыба ловилась хорошо. Хватало и государству, и самим остава-лось. В начале зимы главная рыба была омуль. Он сродни сигу, только покруглее и очень жирный. Положишь омуля на сково-роду - полсковороды жира натопишь. Омули были икряные. Когда рыбу доставали из ячеек сети, икра брызгала во все сто-роны. Выдавленная на лопату, икра тотчас же застывала, и вкус икряной лепешки ни с чем нельзя было сравнить. Тогда многое не с чем было сравнить. Например, строганина. Самая вкусная получалась из омуля. Свежезамороженную рыбу следовало немного отпустить, чтобы сорвать кожу вместе с чешуей, потом настрогать и есть с солью и перцем или с уксусом и горчицей. А можно и просто так - без ничего.
Попадались в сеть и стерлядь, и осетр. Но есть эту рыбу было слишком дорогое удовольствие, и обычно ее сдавали. Накануне Рождества рыбачки все же решились оставить одну рыбину себе. Весила она около пятнадцати килограммов, поймали ее утром, и за день она насквозь промерзла. Осетра сунули под нары, чтобы постепенно оттаивал. Все наши дамы обитали в одной комнате. В ту ночь я гостил у мамы. Ночью проснулись от странного шума под полом. А поскольку в погребе был рыбный склад, решили, что погреб взломали, и там хозяйничают воры. К нашему удивлению, шум поднял осетр, лежавший под нарами. Рыба, закоченевшая как сосулька, оттаяла и ожила. Как клоп. Такое, конечно, случалось не со всеми рыбинами. Только с реликтовыми осетром да стерлядью.
Зимой ловить тоже было трудно. Мамам нашим в те времена приходилось гораздо труднее, чем нам с Янкой. Им надо было преодолевать пять, а то и десять километров до места лова и обратно. В метель ветер сбивал с ног, мороз порой достигал 50-60 градусов. Лед с каждым днем становился все толще, и к Рождеству толщина его достигла метра, а где-то и больше. Прорубить его было не так просто.
Технология лова заключалась в следующем. Во льду на расстоянии двадцати пяти метров друг от друга - на длину сети - прорубали две лунки диаметром сорок-пятьдесят сантиметров. Между ними прорубали еще две лунки, меньшего диаметра. В одну из них опускали девятиметровый шест - «норилу», к толстому концу которого крепили веревку. Один рыбак специальной вилкой подталкивал шест к ближайшей проруби, пока веревка не показывалась на поверхности. Второй подхватывал ее вилкой и толкал дальше. Таким образом между двумя большими прорубями протягивали веревку. К ней привязывали концы сети, протягивали ее между прорубями, оба конца сети привязывали к деревянным крючкам и закрепляли над отверстиями. Так поперек течения ставили в один ряд пять, десять сетей, случалось и больше.
Не знаю, понятно ли я описал технологию подледного лова, вероятно, можно было обойтись и без этого, но я пишу воспоминания, а не роман. Технологию лова можно изложить в двух предложениях, кажется, это просто, но какими словами описать то, что ежедневно на ветру и в мороз голыми руками приходилось вытаскивать сети из проруби и выбирать рыбу из ячеек. А если еще попадалась большая, запутавшаяся в сети, а если стерлядь или осетр в острой пятирядной костяной кольчуге от головы до хвоста... Трудно себе это представить. Чтобы понять, надо пережить самому. Пока достанешь рыбину из сети, пальцы десятки раз побелеют. Единственное место, где можно было отогреть руки, это прорубь. И штаны... Но греть руки в штанах было опасно, можно было отморозить кое-что другое... К холоду руки не у всех были одинаково привычны. У женщин, похоже, они были крепче. А у моей мамы особенно. У нее были красивые ухоженные руки, и такими они оставались до конца жизни наперекор всем сибирским прорубям и сетям. Встречаясь спустя много лет, наши «сибирячки» со смехом вспоминали случай, когда как-то поздним вечером, когда все уже спали, одна из наших дам услышала странный звук. Мама сидела в своем закутке и при слабом свете масляной плошки подпиливала ногти. На удивленный вопрос мама, словно бы извиняясь, ответила: «Знаешь, я случайно из дому захватила маникюрный прибор».
У меня руки страшно мерзли. Они застывали, как грабли, и, даже согревшись, не хотели слушаться. Позже я узнал, что существует такая болезнь. Из-за этой беды я не раз оказывался в критической и даже опасной ситуации - не мог в тайге зажечь спичку и, смешно сказать, вынужден был обращаться к нашим дамам с просьбой застегнуть мне штаны.
Во время каждого посещения Плахино мы навещали и нашего друга радиста Селезнева. Я и сегодня вспоминаю этого человека с уважением и благодарностью. Он как бы согревал нас. О многом рассказывал. Не помню, что конкретно, но в любом случае это было интересно и поучительно, расширяло наш кругозор, помогало осваивать язык. У Селезнева было десять- пятнадцать книг, и он давал нам их читать. Вначале было трудно. Запас слов пока был ничтожный. В общении с местными вполне хватало нескольких десятков. Ради истины должен сказать, что грязный «мат», на каждом шагу звучавший в Куличках, на севере встречался гораздо реже. Возможно, потому, что здесь было много староверов, которые «мат» вообще не употребляли. Интеллект высланных на север богатых крестьян - «кулаков» тоже был на порядок выше, чем у остальной люмпенизированной массы крестьян, которые общались больше на «мате», чем на обычном языке.
Первая книга Селезнева, которую я прочитал, была «Девяносто третий» Виктора Гюго. Понял только содержание - фабулу. Читал, в основном, когда бывал в Плахино, потому что там можно было спросить у мамы или у кого-то еще смысл того или иного слова. Хорошо, если понял я четверть прочитанного. Читал при свете открытой дверцы топившейся печки. Янка на этот счет был ленив, и мне приходилось ему и Дзидре пересказывать прочитанное. Второй книгой была «Аэлита» Алексея Толстого. Из нее я уже понял более половины. Читал с удовольствием, потому что мне вообще нравилась фантастика, которая в те годы была редким явлением. К весне я «домучил» «Петра Первого» того же Толстого. Это был совсем другой Петр, чем в исторической трилогии нашего Александра Грина, которую я прочел незадолго до ссылки. Я скорее верил Грину, так как уже хорошо узнал Россию и русских. Весной Селезнева забрали в армию.
Не берусь оспаривать тех, кто рассказывает, как доброжелательно относились к ним в ссылке местные жители, простые люди, делившиеся последним куском хлеба. Мне кажется, очень часто мы выдаем желаемое за действительное.
Никакой особой доброжелательности мы не ощущали. Да и нельзя было ее ожидать. Русский народ был так заморочен господствовавшей долгие годы враждебной людям властью, что утратил основные законы и обычаи, полученные в наследство от предков и церкви. Разве что интеллигенция, вернее, интеллектуалы, которых в России было очень мало, еще кое-что сохранила. И роль этих русских интеллигентов в моей жизни неоценима. Одним из них был русский радист Селезнев.
(Истины ради должен сказать, что большинство так называемых русских интеллигентов были евреи. Евреи в Советском Союзе всегда подвергались дискриминации и репрессиям - может быть, потому, что они все больше вытесняли русских из интеллигентных сфер. Для евреев это была единственная возможность выжить в атмосфере русского шовинизма. Пусть простят меня за эти слова мои русские предки.)
В Плахино был клуб. Заведовала клубом Шура. Не знаю, каково было ее образование, но была она очень талантливая. Шуре было около тридцати, чему-то она училась, что-то повидала. Местными силами она ставила фрагменты из пьес Чехова, Мольера, Шекспира. Шура была наделена здоровым чувством юмора, любила театр, умела увлечь других. Случались, правда, курьезы, вспоминая которые, мы еще много лет смеялись.
Работая над фрагментом из «Каменного гостя», Шура закутала исполнителя роли Командора в простыню и велела ему встать на табурет в глубине сцены. И когда стоявшая все время неподвижно «статуя» вдруг заговорила замогильным голосом и протянула Дон Жуану руку для приветствия, сидящие в первых рядах женщины от страха попадали, перевернув скамейки. Большинство местных жителей мало читали и мало что видели. Жизнь прожили, а железной дороги так и не видели.
В Плахино жил человек по имени Семен Меджидов. Сам он говорил, что его настоящее имя Абдул Меджид и он турок. (Как Остап Бендер. У Семена было очень много общего с героем великолепного романа Ильфа и Петрова.) Семена давным-давно выслали из Одессы как карманного вора и неисправимого рецидивиста (по крайней мере, он сам так говорил). В молодости он, по-видимому, многое повидал и немного разбирался в балете. Вдвоем с Шурой они решили сделать пародию на «Умирающего лебедя» Сен-Санса. Сшили балетную пачку, приспособили бюстгальтер, и, когда Семен выбежал на сцену и начал танцевать, казалось, клуб вот-вот рухнет от восторга зрителей. Семен был небольшого роста, полный, волосатый, и, когда он в конце падал на пол, задрав волосатые ноги и дрыгая ими как в предсмертных судорогах, - это была вершина искусства, нечто уникальное и неописуемое.
Тогда я еще почти ничего не знал об Одессе и одесситах, но теперь, когда вспоминаю Семена, должен сказать, что он был настоящим одесситом. Молодой, остроумный, он был горазд на всякие выдумки. И был невероятный лентяй.
(Признаюсь, не всегда в моих воспоминаниях соблюдена хронология. Помнится очень многое, но не всегда во временной последовательности. Это касается, например, событий в клубе.
Хочется вспоминать только веселые истории, интересных, хороших людей, каких я, к счастью, в своей жизни встретил немало, а не ледяной холод, ненависть, презрение, отчаяние и все прочее, только бы поставить нас на колени, сделать покорными, лояльными советской власти гражданами.)
В непрерывной цепочке преступлений коммунистической системы есть и такие, которые отличаются особой, ничем не объяснимой и ничем не оправданной жестокостью и непостижимым бессмыслием. Именно такое преступление той зимой было совершено километрах в пятнадцати от нашего Плахино. Место это называется Агапитово, так как находилось оно напротив острова Агапитов. Но в памяти поселенцев Агапитово навсегда останется «Островом смерти». Это был настоящий лагерь смерти. Только не было там ни колючей проволоки, ни вышек с часовыми, ни охраны, ни собак. Был только каменистый берег Енисея и полуразрушенное строение на обрыве.
На этом месте поздней осенью 1942 года с барж высадили около пятисот человек. Немцев из Поволжья и Ленинградской области, финнов и карелов с оккупированных в 1939 году территорий и латышских женщин и детей. И младенцев, и глубоких стариков. Весны дождалась едва четвертая часть высланных.
Был ли это эксперимент, или это была случайность? Кто теперь скажет!
Караван, который в начале лета привез нас на север, оказался не единственным. Весь 1942 год десятки тысяч политически репрессированных разных национальностей с юга Красноярского края переправляли на север. Подобное переселение «белых рабов» по рекам Сибири началось еще в конце двадцатых годов, когда проводилась принудительная коллективизация и высылка кулаков, продолжалось оно с разной степенью интенсивности вплоть до смерти Сталина.
Нам повезло, что мы попали на север в начале лета. К зиме успели немного акклиматизироваться, ели жирную рыбу, ягоды, зеленый лук, так что витаминами свой организм напичкали. Не знаю, как с точки зрения биологов и медиков, надолго ли хватает в организме витаминов и всего, что удалось накопить, если не пополнять запасы, но зиму мы встретили, не испытывая ни страха, ни отчаяния. С полными желудками и небольшими запасами.
Несравнимо труднее пришлось в первую зиму тем, кого привезли осенью. Весной привезли женщин с детьми- подростками, а осенью - с маленькими детьми и стариков. Зачем? Один Бог знает. Бог и чека. Весной людей привезли работать, осенью - умирать.
И нам, безусловно, было нелегко. И, вероятно, труднее и опаснее, чем кажется сейчас, глядя с расстоянья минувших лет, ибо прежде забывается все плохое (по крайней мере, мне так кажется). Мы мокли в холодной воде, мерзли, испытывали чувство безысходности, минуты апатии, все это не одному из нас стоило жизни. Но у нас все-таки была крыша над головой. Мы были взрослые, если взрослыми можно назвать мальчишек и девчонок пятнадцати-шестнадцати лет. А женщин старше сорока среди наших было очень мало. Но в Агапитово...
Мало уже осталось в живых из тех, кому посчастливилось пережить страшную зиму в Агапитово. Очевидно, никто из этих немногих (живы человек пять или шесть) ничего не напишет об «Острове смерти», об Агапитово, поэтому я с разрешения этих людей посвящаю несколько страниц своих воспоминаний их рассказам.
Леопольд Барановскис, которому было тогда шестнадцать, рассказывал, что им выдали пять или шесть палаток. В каждой палатке жили по сто-сто двадцать человек. Посреди палатки стояла бочка из-под бензина, приспособленная под печь. Даже не у всех была возможность согреть воду. Печка кое-как обогревала только середину палатки. Люди стали умирать еще осенью. Первыми умерли дети и старики. Вымирали целые семьи. Со смертью ребенка жизнь для матери теряла смысл, дети, потеряв мать, были обречены на гибель. Главными причинами смерти были холод, голод, понос и цинга. Еще осенью люди начали голодать, так как вовремя не завезли продукты. А может быть, это было сделано специально? Цели и замыслы чека непостижимы. Когда привезли продукты, люди стали есть муку, потому что негде было испечь даже лепешки. Порция муки была ничтожной. Часть продуктов крали те, кто устроился или был назначен начальником. Были такие, кто пытался к муке добавлять опилки. Люди умирали в страшных мучениях. На берегу реки они искали оставшиеся под снегом лук и щавель, выкапывали всякие корни. Многие травились. Все страдали цингой - скорбутом. Цинга вызывала не только физиологические и биологические изменения в человеческом организме, но оставляла след и на психике. Цинга делала человека апатичным, неспособным бороться. Это тоже было одной из причин смерти. И нечеловеческий холод, и сознание безвыходности, отчаяние.
Сестре Леопольда Валентине было всего одиннадцать. Младшего брата, который родился уже в Сибири, Барановскисы похоронили по дороге на север. Второй брат умер в Агапитово.
«Я хорошо помню охватившее нас отчаяние, когда мы оказались на безлюдном каменистом берегу. Даже мы, дети, поняли, что нас ждет, - вспоминает Валентина. - Помню, что спали в палатке. Нары были сбиты из узких дощечек. На каждого приходилось три дощечки. С потолка временами капало. Висели сосульки. Иногда потолок был белый от инея. За хлебом выстаивали длинную очередь. Было очень холодно. Было много немцев. К нам они относились враждебно. Они коммунисты, и это ошибка, что их выслали, а мы фашисты. Вероятно, не все так думали, но слова эти запомнились. Умер маленький братик. Я до сих пор не могу забыть, как он умирал. Страшно вспоминать. А вши! Эти ужасные вши! Когда человек умирал, вши полчищами вылезали из его одежды, вся одежда была усеяна ими. Потом заболела я. Лежала всю зиму. Помню, как мама меня трясла и кричала, чтобы я не закрывала глаза.»
Неллия Рабкина (тогда Закис), которой было тогда сем-надцать, рассказывала, что дети примерзали к нарам. Начался страшный понос, и снег вокруг палатки покраснел от крови. Обессиленные люди не в состоянии были выдолбить в про-мерзшей земле могилы. Мертвых кое-как засыпали на глубине полуметра. На кладбище хозяйничали волки, полярные лисы и горностаи. Груды трупов неделями лежали около палаток. Были даже случаи каннибализма!
Поздней осенью по реке сплавили лесоматериалы для строительства бараков. Плоты вмерзли в лед, и всю зиму их выкалывали изо льда и на канатах затаскивали бревна на крутой берег. Работали и дети. Чтобы в вечной мерзлоте вырыть ямы для землянок, приходилось целыми днями жечь громадные костры. Для них надо было заготовить сотни кубометров дров. Для рытья могил тоже нужно было отогревать землю. Заготовка дров для костров, рытье ям, строительство землянок и бараков - все это были только вспомогательные работы - работа на себя. А главное надо было заготовить дрова для пароходов, для будущей навигации. И надо было выполнить норму, чтобы получить несколько сот граммов хлеба для себя и для детей.
Бируте Казаке было тогда девять лет, но она все хорошо помнит. «Нас высадили на каменистом берегу. Захватили свои узлы и стали подниматься в гору. Нас тотчас же поставили рыть землянки. Мы, дети, тоже работали. Носили выкопанную землю и таскали доски. Мужчин было мало, так что работа подвигалась медленно. Не переставая шел холодный противный дождь. Мы все время были мокрые. Спали в большой палатке. Маленькие дети плакали и начали кашлять. Потом детей согнали в первую готовую землянку. Большую «буржуйку» топили непрерывно. Те, кто был ближе к печке, мучились от жары, тот же, кто находился дальше, замерзал. Но в землянке было все же лучше, чем в палатке.
В нашей семье было пятеро. Мама, бабушка, я, братик Валдис и сестричка Иевиня, которой было десять месяцев. Семилетняя Эдите умерла еще в Красноярске. Наступила зима, а обуви не было. Я заматывала ноги тряпками, когда выходила на улицу. Мы, дети, ходили в лес, собирали упавшие деревья и ветки. Дров требовалось много. Печка их просто заглатывала.
Вырыли много землянок. Вся гора была изрыта. Но были еще и палатки, занесенные снегом. Железные трубы плевались дымом и искрами, и крыша в палатках была вся в дырах. На полу и в палатках, и в землянках стояла вода, так что ходили мы по мосткам.
Семьям, в которых были маленькие дети, выдали старые, грязные матрасы. На них все же спать был лучше, чем на каких- то тряпках.
В начале декабря умерла сестричка Иевиня. Мама почти не плакала и сказала, что мы все останемся здесь, эту зиму не переживем.
У меня нет слов, чтобы описать эту страшную зиму. Я вспоминаю ее, как самое страшное время в моей жизни...
Много детей было школьного возраста, но школы не было. Весь день мы заготавливали дрова.
Зимой люди часто умирали. А к весне и того больше. Не всегда удавалось сразу всех похоронить, трупы складывали в специальной палатке. Однажды мы с мальчишками туда забрались, хотя палатку охраняли, чтобы кто-нибудь не отрезал кусок (такие вещи случались). Мертвые лежали в ряд. И маленькие, и молодые, и старые.
Мамочка и бабушка работали в похоронной бригаде. Мертвеца подвязывали под мышки, и несколько человек волокли его вниз с южной горы через овраг на северную гору. Мамочка меня туда не пускала, и я не видела, как хоронили. Сестричку похоронили недалеко от южной горы, тогда еще каждого хоронили в отдельной могиле, в лесу, потом стали рыть общие могилы.
Люди ходили через реку в деревню Плахино менять на еду оставшиеся вещи. В дороге замерзали. Помню страшную картину, когда привезли замерзшего по дороге еврея Фалька из нашей землянки. Когда его перевернули на спину, жутко выглядели его руки и ноги - как у щенка, когда тот играет, только неподвижные, обмотанные тряпками. Судорожно сжатые грязно-желтые руки держали снег. И лицо желтое, глаза открыты, рот в страшном оскале. Я после этого долго еще боялась выходить из дома одна, все видела его во сне. Когда привезли еще одного замерзшего, я смотреть не пошла.
Рядом с нами в землянке спала мать с двумя мальчиками - фамилия их была Ванагс. Все они умерли. По другую сторону спала финская семья. Молодой мужчина, его жена и девочка лет двух. Они тоже умерли. У женщины были страшные язвы на руках и ногах, выпали волосы и зубы. Еще осенью это была красивая женщина с красивыми длинными волосами. Мы, девочки, играя, хотели быть на нее похожими, а весной она превратилась в страшную старуху. К весне землянка наполовину опустела.
Помню еще, что по ночам страшно выли волки. Вокруг нашей стоянки. В лесу, где были могилы, волчьи глаза светились, как пылающие угли.
Однажды мама взяла нас с братом за руки, и мы пошли на берег смотреть, не появилась ли где-нибудь уже травка, которую можно есть. Вдоль берега шел какой-то человек. Он подошел к нам. Мужчина в годах. Они с мамой о чем-то поговорили. Потом он достал из мешка мороженую рыбу, маленьким топориком порубил ее на куски и заставил нас тут же ее съесть. Мне казалось, что я в жизни не ела ничего вкуснее. Мама рассказала, что человек велел пить хвойный отвар и искать возле деревьев, где снег тает раньше, бруснику. С этим человеком мы виделись еще несколько раз, и он всегда приносил нам то рыбу, то кусок мяса, которые мы тут же сырыми съедали. Позже, когда потеплело, человек этот показал, как снимать кору с березы и соскабливать со ствола сладкую пленку. Он оставил нам и маленький ножик.»
Это воспоминания Бируты Казаки об «Острове смерти», Агапитово. Из всей большой семьи Казаков домой вернулась только Бирута. Одна сестра умерла в Красноярске, вторая в Агапитово, бабушка в Плахине, мать в Игарке. Брат пропал без вести. Отец погиб в Вятлаге. Кости многих латышских семей вот так же разбросаны по всей России.
Госпожа Кокс-Малендер из Алулксне оказалась в Агапитово с двумя сыновьями - Имантом и Индулисом. Индулис, умирая, просил мать и брата, чтобы косточки его похоронили на родине. Через много лет мать вырубила из вечной мерзлоты труп сына, разрубила на куски и сожгла. Кости она отослала родственникам в Алуксне, которые захоронили их на кладбище. Позже, кажется в 1946 году, мы с госпожой Кокс-Малендер и ее вторым сыном рыбачили на Чумном озере. Она умерла вскоре после возвращения в Латвию. После пережитого в Агапитово Имант остался инвалидом. Однажды его сильно избили в милиции, так как слишком часто рассказывал он о том, что они пережили. Его и до этого не раз предупреждали, чтобы не болтал. Через некоторое время после этого случая Имант скончался.
Любые экстремальные обстоятельства - война, голод, стихийные бедствия, катастрофы - выявляют субъектов, которые способны наживаться на чужом горе. И на севере в те времена были такие. Недалеко от Агапитово жил рыбак, однодворец Литкин. Он был сослан на север еще раньше как кулак. Литкин разбогател на несчастье бедных агапитовцев. В обмен на рыбу он набил свою хижину ценными вещами. Говорили, что Литкин за голову осетра выменял бостоновый костюм. Он отправил самому Сталину крупную сумму на строительство танка или самолета. Для России это было не в диковинку. Не один бывший разбойник жертвовал часть добытого на строительство церкви или монастыря, чтобы искупить свои грехи.
Когда в 1988 году, путешествуя по тем местам, я спросил у встреченного недалеко от Агапитово рыбака, помнит ли он некоего Литкина, тот ответил: «Да кто ж не знает эту сволочь, который нажился на вещах умирающих!»
И в нашем Плахино кое-кому из местных не казалось грехом почти задаром заполучить какую-нибудь одежду. Когда моя мама спросила у пришедшего в Плахино из Агапитово мальчика: «Как же ты такой красивый шарф отдал за несколько горстей картофельной шелухи!», он насупился и ответил: «Завтра же Рождество». Этого мальчика я помню как сегодня. Он сидел на корточках у печки, укутанный в лохмотья. На коленях у него была миска с супом, которым накормили его наши женщины. Мальчишке предстоял обратный путь в Агапитово, где его ждали мать и маленькая сестренка, а на улице было минус пятьдесят.
Немногочисленные агапитовцы, которым удалось выжить, удивляются этому до сих пор. Леопольд Барановскис думает, что его и сестру спасли только молитвы матери. Мать молилась не переставая. Возможно, молитвы госпожи Барановской спасли не только ее детей?
Какую преследовали цель, согнав в Агапитово столько народу? Существовала официальная версия - создание нового колхоза. Под названием, если не ошибаюсь, «Рассвет Октября». Только идиоту могло прийти в голову что-то строить и создавать в таком месте. На десятки километров вокруг не было ни одного, подобного Косе, подходящего для лова места. Рыбаку интуиция подсказывает, где будет хорошо ловиться, а здесь ни один рыбак никогда не жил. Чтобы заготавливать дрова для парохода, достаточно было нескольких десятков человек, как и для заготовки сена на острове. А сюда привезли более полутысячи человек. Даже те, кто сумел выжить в первую страш-ную зиму, здесь прокормиться не могли. Но разве мало было в Советском Союзе таких бессмысленных проектов? Один такой проект, только в тысячу раз грандиознее, уже зрел в головах московских «гениев» - Великая трансполярная железнодорожная магистраль, куда и мне через некоторое время «посчастливилось» попасть.
План создать колхоз на костях женщин и детей так и остался планом. Оставшиеся в живых уже весной, кто как мог, бежали с «Острова смерти» в Игарку. Кто «зайцем», тайком пробравшись на баржу, как друг моих позднейших лет Петерис Берзиньш (тот самый, что обменял шарф на картофельную шелуху), некоторые перебрались в Плахино, как Бирута, кого-то полуживыми отвезли в Игарку, в больницу-Леопольда, искусанного в тайге мошкарой, Неллию - с распухшими, как колоды, ногами, Валентину - со сведенными судорогами ногами. Когда первые агапитовцы появились в Игарке, комендант с удивлением воскликнул: «Как, разве там еще кто-то живой остался?!»
В 1990 году я в качестве консультанта документального фильма «Город солнца», путешествуя «по местам своей юности», встретил в Игарке Леопольда Барановскиса, он передал мне список умерших в Агапитово в первую зиму. С его разрешения я публикую этот список в своих воспоминаниях.
Имя, фамилия, возраст
1. Олга Гравите, 36 лет
2. Нина Шулце, 52 лет
3. Изабелла Казака, 1 год
4. Анатолий Барановские, 1 год
5. Бирута Викса, 4 года
6. Валдис Гребешс, 1 год
7. Анна Пагродс, 38 лет
8. Ивар Пагродс, 6 лет
9. Паулина Бирзулис, 64 года
10. Вера Кравале, 38 лет
11. Милда Вилнис, 1 год
12. Алвина Грунтспетс, 56 лет
13. Янис Грунтспетс, 57лет
14. Илмар Макарскис, 13 лет
15. Акулина Макарскис, 40лет
16. Милда Лазда, 50 лет
17. Кондрат Лазда, 17 лет
18. Юрис Рудзитис, 3 года
19. Анна Мартинсонс, 68 лет
20. Арнголд Ницис, 27 лет
21. Эфроим Нахимовский, 15 лет
22. ГеоргАрцимович, 14 лет
23. ВернерЛетс, 14 лет
24. Гунар Пукюдрува, 4 года
25. Кристине Пукюдрува, 62 года
Имя, фамилия, возраст
27. Юлия Земзарс, 63 года
28. Астра Мелленбардис, 32 года
29. Берта Пулис, 62 года
30. Мирдза Ласис, 22 года
31. Эмилия Ласис, 50 лет
32. Петерис Ласис, 12 лет
33. Вилхелмине Криевиньш, 57лет
34. Индулис Коксмалендерс, 14 лет
35. Валда Лиепа, 2 года
36. Алма Рогайнис, 44 года
37. Вилнис Рогайнис, 14 лет
38. Майя Рогайнис, 9 лет
39. Вероника Войтиша, 51 год
40. Антонина Войтиша, 17лет
41. Лидия Войтиша, 5 лет
42. Андрей Войтишс, 3 года
43. Кристине Рудзитис, 69лет
44. Мария Барщевска, 9 лет
45. Рута Рогайнис, 12 лет
46. Теофил Лаздыньш, 47 лет
47. Вилма Лиепа, 37 лет
48. Кристине Гайлитис, 5лет
49. Марта Пукюдрува, 24 года
Список этот не полон. В нем нет упомянутой Бирутой семьи Ванагс, нет замерзшего еврейского мальчика - Фалька. Многих нет в этом списке. Да и какой в те времена был учет! Кому это было нужно? Лучше уж подобное не афишировать.
Никого как будто не волновало, что пустуют только что построенные бараки. Председателя нового и уже разорившегося колхоза немца Фосса перевели в Плахино председателем колхоза «8 марта» вместо старого председателя Петрова. Фосс, очевидно, снискал доверие своей работой в Агапитово.
История Агапитово на этом не закончилась, продолжение последовало после войны, когда на берега Енисея было сослано огромное количество вновь обнаруженных «врагов народа» и «предателей отечества». Прислали побывавших в немецком плену и даже не в плену, а оставшихся на оккупированных немцами территориях. Появились на севере и сактированные в лагерях «доходяги». Часть из них оказалась в Агапитово. Не-долго пробыл там и известный в старых латышских медицинских кругах рентгенолог д-р Янис Ледыньш.
О дальнейшей судьбе и печальном конце Агапитово я узнал во время моих позднейших поездок на север. Когда в семидесятые годы началось строительство Хантайской ГЭС, в Агапитово была отправлена бригада для сноса пустых, но хорошо сохранившихся бараков, чтобы плотами сплавить материалы в поселок будущей ГЭС. Река Хантайка впадала в Енисей недалеко от Агапитово. Бригадные в первый же вечер перепились и сожгли бараки. Дотла.
О том, что происходило в ту страшную зиму в Агапитово, мы подробно узнали только в середине зимы, когда оттуда стали приходить первые люди. Что-то мы слышали еще осенью, но по воде туда было уже не добраться, а идти по льду еще опасно.
Когда появились первые очевидцы событий, весть о том, что за несколько месяцев погибли сотни человек, казалась чересчур невероятной. Да и какую помощь могли оказать этим несчастным людям наши пятнадцать-двадцать женщин? Зима и нам не сулила ничего хорошего.
Особенно далеки от всего происходившего в Агапитово были мы с Янкой, жившие в Сопочке. Охотились мы на левом берегу, к югу и к западу от Сопочки, где было больше лесов. Через реку мы ходили редко, слишком она была широкой, к тому же у правого берега в том районе была дурная слава. В начале века там случился мор. Позже, когда агапитовцы рассказывали о виденных ими там волках, подумалось, что ни я, ни Янка во время охоты ни разу не натыкались на волчьи следы, не слышали воя, хотя по своему берегу в тайге исходили сотни километров. Волков в этой местности не было, так как снег был слишком глубокий и рыхлый, и волку трудно было поймать добычу. Волки обитали севернее, в тундре, где ветром снег сдувало и уплотняло. И дикие олени, главная пища волков, обитали там же. В окрестностях Агапитово волки, очевидно, появились, привлеченные неглубоко зарытыми трупами. Как звери это чуют, одному Богу известно.
Первые зимние месяцы мы с Янкой жили, можно сказать, припеваючи. Бегали на лыжах по тундре и тайге, распевая песни. Наслаждались романтикой полярной ночи, «белым безмолвие», воспетым Джеком Лондоном, видели его «три солнца на небе», нереальные цвь^а северного небосвода. Человек, не живший на дальнем севере, вряд ли сочтет естественными цвета на полотнах Рокуэла Кента.
Зачатки мудрости природы мы уже начали постигать - умели хоть как-то ориентироваться в тайге. Случалось, ловили зайцев. Попалась и лиса. Это, правда, была не наша заслуга, а глупость самой лисы. Она попалась в капкан, расставленный на зайца. Скорее всего, гналась за зайцем, тот перепрыгнул через капкан, а она попалась. Это стало большим событием в начале зимы. Ни один из охотников еще лису не поймал. Сами мы боялись зверя свежевать, боялись испортить шкурку и обратились за помощью к старому охотнику. За шкурку получили восемьдесят рублей. Лиса наша была обыкновенная - рыжая. А где-то далеко в тундре жили полярные лисы, за шкурку которой платили двести-двести пятьдесят рублей, и голубые лисы, шкурка которой стоила тысячу. Местных, настоящих охотников, тех, что еще оставались в селе, на далекие охотничьи угодья увозили еще осенью на оленях.
Каких охотничьих трофеев, какой отдачи можно было ждать от нас за съеденную богатую охотничью «пайку», не дав даже самых элементарных знаний, которыми местные овладевали с детства?
Однажды наши собаки в лесу неподалеку от жилья выцарапали из снега мешок с соленой рыбой - омулем и максуном. Килограммов десять, не меньше. Мы поняли, что это спрятали наши соседи немцы, а потом не смогли найти. Мы, как дураки, всю свою засоленную рыбу держали около дома под навесом, и у нас ее отняли, а немцы, как понаторевшие советские граждане, все предвидели и спрятали рыбу в тайге. Совесть по поводу не очень увесистого мешка с рыбой нас не мучила. Я уже говорил, что к «фрицам» мы особой симпатии не испытывали. От русских они, главным образом, отличались заносчивостью. Так, правда, было в самом начале. Позже мы оценили их аккуратность, трудолюбие и другие хорошие качества, которые не совсем еще сумел подавить ни «старший брат», ни тупой строй. Немцам жить было легче, чем нам. Главным образом потому, что их выслали целыми семьями. Во всяком случае, большинство. С собой у них было много вещей, в том числе теплая одежда. Но главное их преимущество заключалось в том, что они были советскими гражданами, закаленными коллективизацией и 1937 годом, как и всем прочим, что для нас было неприемлемым, противоречило логике и элементарным житейским нормам. Но особой интеллигентностью или интеллектом от местных русских они не отличались. А интеллигентность наших дам в тех условиях была лишней, местным непонятной и только мешала, вредила им самим. Но честь им и слава, большинство, несмотря на условия, в которых им пришлось жить, сумели сохранить интеллигентность до конца жизни. Редко кто их них опускался до уровня, до которого насильно стремилась приблизить нас система.
Со многими немцами мы впоследствии сдружились. Общая судьба, царившая вокруг чуждая, порой враждебная атмосфера вытеснили остатки усвоенного в детстве, а с сегодняшних позиций, преувеличенного и тенденциозного, антинемецкого синдрома.
В Сопочке нашим единственным другом был немец Кристьян Штейбезант. Остальные
были «занудные старики». Конечно, мы и сами были виноваты, еще осенью явно
продемонстрировав свою антипатию, нарушив их ночной сон.
Кристьяну было лет сорок. Выслали его из Ленинградской области, где немецкие
деревне существовали еще со времен Петра Первого. Веселый, остроумный, он был
интересным рассказчиком.
Долгими зимними вечерами Кристьян подолгу засиживался возле нашего «камина» и повествовал о жизни в довоенной России, о которой мы почти ничего не знали - о коллективизации, о тридцать седьмом годе. Все это было очень интересно, но во многое не верилось. Но разве можно было поверить в то, что случилось с нами? Кристьян даже о самых мрачных событиях умел рассказывать с юмором, а то и с сарказмом. Первый раз услышав слова песни «.. .я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек!», он понял, что людей снова будут сажать. Так и случилось. Наступил 1937 год. Не знаю, чем мы заслужили доверие Кристьяна. Времена были мрачные. За несколько «не так» и «не там» произнесенных слов можно было оказаться за решеткой. Кристьян был в хороших отношениях со всеми нашими дамами. Был он простым трактористом с четырехклассным образованием, но обладал врожденной интеллигентностью.
Весной с Кристьяном случилась оплошность, над которой все еще долго смеялись. Каждое лето по берегам Енисея и на островах косили сено. Стога сена высились по обоим берегам реки, и зимой их по льду везли в Плахино. Один стог сметали и в Сопочке, на самой крутизне. Кристьян приехал за этим стогом. По пологому склону забрался наверх, возле стога разнуздал лошадь, кинул ей сена, а сам принялся укладывать воз. Решив поставить телегу так, чтобы удобнее было запрячь лошадь, он сунул оглобли под мышки и стал поворачивать телегу. Была весна, снег подтаял, стал скользким, и телега с Кристьяном в оглоблях стала съезжать вниз. Я в это время взбирался по обрыву и еле успел отскочить в сторону, как тут же раздался крик, и телега с впряженным в нее Кристьяном пронеслась мимо по сколькому весеннему снегу. Ничего страшного с ним не случилось. Порвал только ватные штаны.
Мои воспоминания о первой северной зиме были бы неполными, если бы несколько строк я не посвятил нашим друзьям - собакам. Их было две - Шпанка и Мишка. Шпанка была настоящая сибирская лайка. Во всяком случае, выдавала себя за таковую. Вряд ли в вольно бегающей собачьей стае сучка могла сохранить в чистоте свою породу, но выглядела она превосходно - умная и приветливая, хвост всегда калачом, настоящая лайка. Лайки наделены врожденным интеллектом, если к собакам можно применить это понятие. Впоследствии у меня было две сибирские лайки. Если, например, собаку другой породы, скажем, овчарку, не учить, глупее скотинки не найдешь. А сибирская лайка умна без всякой школы. Но не все собаки умны одинаково. Даже у одной собачьей мамы не все щенки одинаковые. Впоследствии я познакомился с оригинальным методом отбора щенков. Слепых щенков выкладывают на стол. Один, добравшись до края, падает, другой хватает лапой воздух, отдергивает ее и дальше не ползет. Этот-то и есть самый умный. Остальных топят.
Второй пес, Мишка - большой, белый, мохнатый, настоящая ездовая собака. Летом у собак хозяев не было. Летом они никому не были нужны. Разве что волочить лодку вдоль берега. Обе собаки все лето жили в Сопочке, каждый день бегали с нами на промысел, остались у нас и на зиму. Их хозяев мы не знали. Обе сопровождали нас в походах по тайге. Случалось - они исчезали на несколько дней.
Хозяин Шпанки вскоре объявился, потому что она была хорошим охотником. Белку чуяла на большом расстоянии и гналась за ней не по следу, а напрямую, ведомая только слухом и обонянием. Такая собака на вес золота. Если бы у нас было Ружье, со Шпанкой бы мы за пару первых зимних месяцев настреляли десятки белок. Но ружья таким, как мы, в первые годы войны еще не давали.
Для Мишки мы смастерили будку. Но это оказалось лишним. Пес все ночи проводил рядом с будкой, свернувшись клубком и пряча нос в пушистый хвост. В метель его заносило снегом. Нашей «голубой мечтой» была поездка на собачьей упряжке, как ездили герои Джека Лондона на Аляске. На чердаке мы нашли полозья от нарт и смастерили нечто напоминавшее нарты. На реке ветер так прибил снег, что даже лошадь не проваливалась, и сильный Мишка тащил нарты рысью, но только если в нартах сидел один из нас. Чтобы ездить вместе, мы как-то ночью пошли в Плахино и привели с собой еще одну собаку. Особых усилий на это не потребовалось, так все собаки нас знали. Несколько дней мы катались, но поскольку собаку надо было еще и кормить, очень скоро мы доставили ее обратно. Отделались от нее с трудом. Похоже, мы ей показались симпатичными.
Однажды вечером и у Мишки объявился хозяин - Николай Белов. Километрах в двадцати от Сопочки он заготавливал дрова для пароходов, и Мишка ему понадобился вывозить дрова из леса на берег. Николай отругал нас за то, что прятали пса, побил его и увел.
Гораздо позже, где-то в середине зимы, я стоял на краю обрыва и смотрел вдаль на приближающуюся по льду Енисея собачью упряжку. Я узнал белого Мишку. В нартах сидел его хозяин. Упряжка мчалась по середине реки. Стоял сильный мороз, полнейшая тишина и уже глубокие сумерки. Я свистнул. Человек свиста не слышал, а собака услышала. Рывок влево, нарты опрокинулись, Коля вылетел, и Мишка, волоча за собой нарты, прыжками помчался в Сопочку, а хозяин с руганью за ним. Скрываться с собакой в тайге не имело никакого смысла. Пришлось отдать пса хозяину. Так закончились наши приклю-чения с собаками.
Как-то вечером, когда мы, как обычно, сидели у горящей печки и я рассказывал очередную историю, за дверью послышались шаги. Потом раздался стук. Вошел высокий старик и попросился переночевать. Сказал, что идет из Норильска.
В тот вечер мы впервые многое узнали об этом «северном чуде», о городе, который построен, как сказал старик, на костях арестантов. Летом мы кое-что уже слышали. Часто летавшие над нами красные американские летающие лодки «Каталины» везли из Норильска на «материк» - большую землю - драгоценные металлы. Старик пять лет просидел в Норильских лагерях. Он рассказал, что там есть и латыши - офицеры Латышской армии. Это для нас оказалось новостью - первые сведения о судьбе нашей армии и об арестованных мужчинах из Латвии вообще.
Трудно было поверить, что в двухстах километрах к северу от нас в тундре построены мощные заводы и огромный город с пяти- и семиэтажными домами, как рассказал старик.
Мне это «северное чудо» - Норильск - довелось увидеть сорок лет спустя, совершая в 1983 году путешествие по горным рекам Путорана. В краеведческом музее ничто не говорило о том, что город и громадные металлургические заводы строили заключенные, что в прямом смысле все построено на костях арестантов.
Из тюрем всегда бежали и бегут. Бежали и из Норильска. Во всех населенных пунктах по берегу Енисея обитали «стрелки» - люди, в задачу которых входило ловить и на месте расстреливать «сибулонсов», как называли там бежавших арестантов. Стрелки же своей главной задачей считали «ловлю» красивых девушек, что было гораздо проще, учитывая большой дефицит мужчин.
Но опаснее стрелков для сибулонсов были туземцы. За каждого застреленного беглеца выдавали немало продуктов и порох. Были случаи, когда жертвой туземца становился и тот, кто никакого отношения к сибулонсам не имел. Но особого беспокойства это не вызывало.
Бежали уголовные преступники с большими сроками, которым нечего было терять. Сбежавшие бандиты обычно прихватывали с собой или уводили силой простого заключенного - на мясо. Когда захваченная с собой еда заканчивалась, «нож к горлу - и в котел!» Это не выдуманные рассказы-страшилки, это истина. Каннибализм в Советском Союзе на определенных этапах был распространенным явлением, и не только в этих диких местах и в этих диких условиях.
Бегство по сути своей было делом безнадежным. Слишком дикими и беспощадными были географические и климатические условия региона. Выжить мог только тот, кто хорошо знал тайгу и тундру.
Места и время были мрачными. Человеческая жизнь ничего не стоила. И все это происходило в стране, где «человек человеку друг, товарищ и брат». Самой величайшей ценностью было светлое будущее, ради которого стоило пожертвовать десятками миллионов жизней. Такие были времена.
В конце февраля или в начале марта, поняв, наконец, что из нашей охоты толку нет, что единственно, кому она приносит пользу, это непуганый мир зверей, нас с Янкой направили на хозяйственные работы в Плахино.
Долг за утерянные капканы приплюсовали к долгу за использованные и порванные летом сети. Долг рос все последующие годы. В истории говорится, что в царское время долги крестьян помещикам и долги рабочих фабрикантам росли из года в год. Сколько в этом правды, кто знает! История чрезвычайно богата на всякие сказки и выдумки, а то, что происходило в России в советские времена, мы видели. У нас не было денег, чтобы выкупить даже ту ничтожную долю продуктов, которая нам полагалась. У наших рыбачек дела шли неважно. После Рождества рыба ловилась все хуже, и скоро ее не хватало не только, чтобы сдать государству, но и на еду. В магазине продуктов было вдоволь, в основном американские мясные консервы, белая мука, яичный, молочный, чесночный и луковый порошки и даже соль. Говорили, что яичным порошком кормят песцов на зверофермах в Игарке. На полках стояли большие жестяные банки с американским растительным маслом, без вкуса и запаха, прозрачным, как вода. Только ржаная мука была российского производства да маргарин в больших деревянных бочках. Маргарин имел две консистенции - твердый, как свеча, или жидкий.
В Плахино я был разнорабочим. Сплавленные поздней осенью плоты вмерзли у берега в лед. Ломами их приходилось выкалывать изо льда. Плоты вязали из обтесанных бревен, из них строили бараки. Жителей в Плахино прибавилось. Осенью привезли большую партию калмыков. Ближе к весне перебрались из Агапитово и многие из оставшихся в живых.
Возил я и сено в Плахино с прибрежных лугов. И на лошадях, и на быках. Быки как тягловое средство для севера были в диковинку, скорее всего, начало этому положили калмыки. Во всех обжитых местах по берегам Енисея в качестве транспорта использовали быков. Ветеринар из Игарки объезжал в оленьей упряжке побережье, кастрируя бычков, и так отъелся на бычьих яйцах, что жир капал со щек.
Работа наша была тяжелая, а еды в обрез, и так что на-копленные за лето и в первые зимние месяцы калории скоро закончились.
Весной руководство снова задумалось, как использовать нас более рационально. Но думали не только о пользе. Судьба наша зависела не столько от желания колхозного руководства, сколько от комендатуры, а она пеклась не о рациональном использовании нас, а о том, как бы усложнить условия существования. Как же иначе объяснить тот факт, что с богатого рыбой Енисея, где мы и сами были сыты, и государству поставляли ценную рыбу, нас послали на озера, подальше от обжитых мест, где мы чуть не «протянули ноги», да и государству не было особой пользы от выловленных нами плотвичек и окуньков, которыми кормили заключенных. (Через много лет мне пришлось такими- же питаться в Красноярской тюрьме.)
Озер в тех краях множество. Янку с матерью и сестрой отослали на дальние озера по левому берегу Енисея-в бассейн реки Таз. Нам с мамой следовало отправляться на какое-то озеро Щучье на правом берегу Енисея. И других разбросали кого куда.
В первые дни мая мы с мамой шагали по енисейскому льду в село Носовое километрах в пятидесяти к югу от Плахино, откуда нам предстояло преодолеть по тайге еще километров двадцать до Щучьего. Нас направили для усиления работавшей там с минувшего лета латышской бригады.
Весна. Солнце пряталось за горизонт ненадолго. Снег на реке таял, а когда солнце пряталось, снова подмораживало, снег превращался в кристаллы, и поверхность реки нещадно слепила. У многих это вызывало так называемую снежную слепоту. Солнцезащитных очков, естественно, не было. Слепота у некоторых длилась несколько дней. Я тренировался ходить с почти закрытыми глазами и смотреть сквозь прищуренные ресницы, как туземцы.
Воздух был прозрачный, бодрящий, пронизанный ослепительными лучами солнца. Вдали белели снежные вершины гор, а вокруг такая красота, что дух захватывало. Но настроение было мрачное. Снова мы идем навстречу неизвестности. Что ждет нас на тех озерах? Я полагал, что ничего хорошего. Жалко было маму. Ей уже исполнилось сорок четыре. Сколько она еще выдержит? Мама еще не знала, что отец погиб. Не помню, как я узнал о смерти отца. Случилось это незадолго до нашего похода на озера. Маме об этом я еще не сказал. Опасался за ее сердце. Больше всего я боялся остаться на чужбине один. В Плахино был, по крайней мере, какой-то так называемый медпункт и фельдшер (местные называли его «фершал»), а что будет на новом месте?
Шли мы несколько дней. Первую ночь провели в Сопочке. Моя «ночлежка» опустела. Немцы тоже перебрались в Плахино. Некоторые даже в Игарку. С немцами все же обходились иначе, чем с нами. Среди них были мужчины, которые сумели проявить настойчивость.
Около Носового вошли в тайгу. Заблудиться было невозможно, так как только одна тропа вела к системе Остяцких озер, в которую входило и наше Щучье. Тропа петляла по тайге, по лесотундре, по замерзшим болотам, и через многочисленные озерца привела нас к большому озеру Остяцкое, по имени которого и была названа вся система. Лов здесь вела бригада немцев и несколько наших женщин. По озеру предстояло пройти километров шесть. Узкая полоска земли отделяла его от другого озера, в северной оконечности которого заканчивалось наше путешествие. На берегу стояла низкая, срубленная из толстых стволов лиственницы, покрытая еловой корой изба. За ней - зеленая стена елей. Декорации дополняла высокая гора, вернее, ее острый конус. Еще шагая по льду Остяцкого озера, я заметил, что почти все острова имеют конусообразную форму.
Перед избой стояла группа женщин. Мама, еле переставляя ноги, с трудом поднялась в гору. За спиной осталось почти восемьдесят километров. Я же усталости почти не чувствовал. Всю зиму бегал по окрестностям Сопочки на лыжах, да и не совсем еще изголодался.
А женщины, которые нас ждали, изголодались до последнего. Уже несколько месяцев они обходились кружкой муки в день. Двести граммов муки, вода и соль. Из избы вышел бригадир Игнатий Фокеевич Кошелев. Я о нем уже кое-что слышал, и ни одного доброго слова. Все Плахино говорило, что он обокрал свою бригаду. И хотя об этом знали, начальство смотрело на все сквозь пальцы - как никак, свой человек. А то, что шестнадцать женщин по милости какого-то прохвоста голодают, никого особенно не трогало. Опытных рыбаков, мужчин, в колхозе по пальцам можно было пересчитать, а обворованные женщины были к тому же враги народа. Была в этой истории и некая пикантность. Старый «донжуан» обворовывал бригаду ради своей фаворитки, одной из дам бригады, чтобы она ни в чем не нуждалась. Рулоны за сданную рыбу получал бригадир, бригаде отдавал небольшую часть, остальное продавал. Не было ничего проще, чем обмануть интеллигентных женщин, которые в этих вопросах ничего не понимали. Им и в голову не могло прийти, что можно такое вытворять. Тем более потому, что еще осенью они спасли старику жизнь, когда тот провалился на тонком льду, ставя сети. Вместе с ним были четыре женщины, и, рискуя сами оказаться подо льдом, они спасли Кошелева.
Когда обман раскрылся, все же надо было как-то реагировать. Кошелевскую даму сердца отправили за двадцать километров в глубь материка - на Филькино озеро. Кошелева пожурили за интимную связь с врагом народа и велели больше так не поступать. Ни денег, ни продуктов бригаде, естественно, не вернули. Что было, то было: «Закон - тайга, прокурор - медведь». Единственным утешением был приобретенный опыт.
Безусловно, не очень этично обсуждать щекотливую тему фавориток. Обо всем, что касается отношений мужчины и женщины, неважно, при каких обстоятельствах, судить надо очень осторожно. Невозможно постичь трагедию, которую пришлось пережить тысячам женщин, силой внезапно оторванных от своих мужей. Многие успели прожить вместе всего несколько месяцев, а то и дней. Некоторых разлучили в брачную ночь. Многие женщины в первые месяцы ссылки потеряли своих маленьких детей. Другие поддались отчаянию, впали в апатию, им было все равно, что происходит. И если кое-кто искал и находил тепло и покой под боком у местного старика, то только Бог тому судья. Всякое бывало. Но то, что связано с Кошелевым, подлежало осуждению с чисто человеческой точки зрения. Дама грозила своим товаркам, что расскажет коменданту об их антигосударственных разговорах. Кем были остальные женщины в глазах Кошелева? Врагами народа, людьми вне закона. Прошлое Кошелева было окутано тайной. Поговаривали, что он работал в чека. На севере было не принято интересоваться ничьим прошлым. Такова была установка соответствующих органов. Кошелев был не дурак, кое-что повидал, но он был злым. (Позже выяснилось, что Шура, заведующая клубом в Плахино, о которой я уже упоминал, его дочь.)
Женщины надеялись на мою помощь. Пусть и шестнадцатилетний, я был все-таки мужчина. Прожив почти год в таежных джунглях, интеллигентные дамы были запуганы и многое воспринимали как само собой разумеющееся и неизбежное. Через несколько дней, ознакомившись с местными условиями и разобравшись в ситуации, я, моя энергичная, воинственно настроенная мама, «заведенные» остальными женщинами Татьяна Янцева и Эрика Тобис направились к старику «сводить счеты». Вся бригада в ожидании стояла за дверьми. От нашего разговора в избе дрожали окна.
Кошелев написал в правление колхоза и коменданту рапорт (содержание которого нам позже пересказали), что «старая кляча» Татьяна, «крокодил» Эрика и еще «ног не обогревшие в Щучьем - Мария и Ирман (мое имя он не научился произносить правильно) взбунтовались и подбивают всю бригаду на бунт». Никакой политики, к счастью, нам не пришили. Щучье от Плахино было далеко, и, вероятно, никто не горел особым желанием преодолевать такое расстояние из-за нашего конфликта. Через некоторое время продавцу Альберту, который обслуживал все окрестные озера и склад которого располагался на Щучьем, велено было выдать нашей бригаде авансом мешок муки. То-то был праздник! Мы победили.
На дальнем севере есть период, когда кажется, что зима закончилась, но и весна еще по-настоящему не началась. Когда ночами все застывает от холода, когда несколько дней подряд валит мокрый снег, который тут же превращается в лед. Озера еще подо льдом. Только ночи не такие темные. А когда показывается солнце, снег начинает таять, но стоит солнцу спрятаться за облака, снова наступает зима. В начале июня начинают журчать ручьи, одни подо льдом, другие вырвавшись на поверхность. В тундре чернеют оттаявшие холмы. А в сумерках где-то вдали раздаются лебединые клики, местами на свежевыпавшем снегу видны отпечатки лап этих красивых птиц. Появляются уже и следы хозяина тайги - медведя, которого до срока выгнали из пещеры весенние воды. Вдоль берегов проступает вода, в устьях впадающих в озеро рек и речушек возникают полыньи, куда уже можно забрасывать сети. Но потом неожиданно ударит мороз, и, смотришь, берега усеяны сотнями тушек слишком рано прилетевших длинноногих куличков, да глупые утки громко крякают от удивления, когда опускаясь туда, где еще пару часов назад была вода, ударяются грудью о прозрачный лед.
В такое время и пришли мы в Щучье. В тяжелое время. Бригада голодала и совершенно обессилела. Рыбы не видели с февраля. Десятки поставленных сетей оставались пустыми.
Начали готовиться к весеннему лову. Мастерили новые сети, чинили старые. В качестве поплавков использовали скрученную бересту или стесанные тонкие деревянные плашки. Грузилом служили камешки, зашитые в бересте. Мы с Кошелевым принялись делать новые лодки. Одну большую и одну маленькую - так называемую ветку. Я терпеть не мог Кошелева и он меня тоже, но делать было нечего. Надо было жить. Мы находились как в космическом корабле, откуда не сойти, когда захочется. К тому же он умел многое, чем я тоже стремился овладеть, чему должен был научиться, что было необходимо, чтобы выжить. Лодки он делать умел, да еще и красивые. Таких красивых лодок я прежде никогда не видел и, считаю, так не видел и до сих пор. Дно лодки делали из кедра. Кедр в окрестных лесах был большой редкостью, в его поисках приходилось уходить далеко. Завалили толстый прямой кедр, выпилили из него бревно, раскололи его вдоль на две части и принялись вытесывать днища. Кедр дерево легкое, прост в обработке. Форма лодки и ее гидродинамические свойства в основном зависят от правильно вытесанного днища. Я старался. Но не для того, чтобы понравиться «старому козлу», - это была интересная работа. На севере главный инструмент-топор, и если человек умеет держать его в руках, он уже чего-то стоит. Мы испортили несколько кедров, пока, наконец, Кошелев не остался доволен сделанным. Я выполнял черновые, грубые работы, а Кошелев придал днищу лодки окончательные очертания.
Шпангоуты (ребра лодки) мастерили из небольших елочек. У большинства елок был один толстый корень, который образовывал со стволом прямой или тупой угол. Корень надо было вырубить из промерзшей земли и обрубить на метр-полтора. Из ствола ели вместе с толстым корнем, который должным образом обрабатывался, получались красивые и крепкие шпангоуты. Доски привезли еще зимой. Для строительства лодки требовались специальные плоские гвозди с широкой головкой. Мы делали их из плоских гвоздей для подков. Забивали гвоздь в подкову и молотком расплющивали шляпку. Сделали сотни гвоздей.
Как известно, лодку следует пропитать варом, просмолить. Соскребали с лиственниц застывшую смолу, растапливали ее и заливали в щели между досками.
Плели верши. Этому я тоже научился у Кошелева, что впоследствии мне очень пригодилось.
Когда лед под солнцем и ветром уже повело, в сети, забрасываемые в озеро с большим риском, стали попадаться окуни и плотва. Когда мы с Верой и Аустрой однажды поймали пару окуней граммов по пятьсот каждый, развели костер на пригорке, где уже растаял снег, и испекли на вертеле рыбу со всеми внутренностями. Это было нечто особенное! Спустя много лет уже в Латвии мы вспоминали, как облизывали тогда полусырой жир с рыбьих кишок. К Янову дню напротив устья впадавшей в озеро речушки неподалеку от нашего дома образовалось уже приличное зеркало воды, можно было забросить невод. Весной вся озерная рыба устремлялась к свободным ото льда промоинам, так что вода иной раз буквально кипела. Рыба плескалась по самой поверхности, вплотную друг к другу. Но такое происходило только в первые дни, чем дальше, тем беднее был улов. Первые дни и недели были решающими. В это время улов был в десятки раз больше чем за все лето. Первые недели мы вообще не спали, а если и приляжем, то на пару часов - если уж совсем валились с ног или вываливались из лодки через борт. При этом мучились несварением желудка. После последних голодных месяцев, когда единственным пропитанием была жидкая мучная болтушка, резкий переход на рыбу был опасен.
Умерла Эдите Белайс. Ушла за несколько дней. Помню, у нее страшно вздулся живот. Никакой медицинской помощи не было, лекарств никаких. Расма Узане отправилась в Носовое за клизмой, но, когда вернулась, было уже поздно. Наши женщины окружили умирающую в страшных муках Эдите, но были бессильны чем-нибудь помочь. Весь день жгли костер, чтобы растопить землю на метр глубиной на красивом взгорье на берегу озера Пеляжье. Я вырубил крест в стволе толстой лиственницы, росшей в головах могилы.
Сколько таких, затекших смолой крестов осталось в Сибир-ской тайге! Сколько могил на берегах рек и озер! Кто-то утонул, кто-то замерз, пропал без вести, умер от голода или болезни или был убит. За что все это? Виновных нет. Потомки не виноваты. Однако потомки, по меньшей мере, должны были признать вину своих отцов и дедов за совершенные преступления.
Эдите было около двадцати пяти. Всего год назад она вышла замуж. Дома осталась маленькая дочка.
Летом жили «нормально». Рыбы ели сколько хотели. Вместо мучной болтушки пекли хлеб. Рядом с избой под навесом была русская печь, выложенная из земли. Позже мне самому пришлось участвовать в кладке такой печи. Из бревен делается основание - похожее на колодезный сруб, его плотно набивают землей. На плотно утрамбованную землю ставят ящик из досок, заполняют его дровами. Выше ставят сруб из бревен, заполняют его землей, как следует утрамбовывают ногами и трамбовкой, на пол метра выше ящика. Затем через оставленное в конструкции бревен отверстие - зев печи - поджигают дрова. Печь топят, пока утрамбованная земля не высохнет и от жара не станет монолитной. Над печью ставят крышу из еловой коры. Еловой корой в тайге кроют все избы. Весной она сдирается с елей очень легко.
Обдирая кору с елей, я вспомнил последний месяц в Екаб пилсе - ошкуривание еловых бревен на берегу Даугавы. Ребят, которые подрядились ошкуривать бревна, набралось много. Кору как будто использовали для выделки кож. Заработали хорошо, почти хватило бы на новый велосипед, но я свои первые заработанные деньги не получил. Помню, мы сидели, уминая взятые из дома бутерброды, и рассуждали о том, что происходит и что произойдет в ближайшем будущем. Говорили о неизбежной войне и нашей в ней роли. Были уверены, что нам предстоит воевать, как и нашим отцам. Все ребята ушли на войну, кроме меня. Пока мои сверстники, мои одноклассники и друзья, воевали, я в Сибири ловил рыбу и отстреливал несчастных зверьков, которые ничего плохого мне не сделали и убийство которых было мне неприятно, противоречило моим жизненным убеждениям. С гораздо большей радостью я бы тогда «уложил» какого-нибудь чекиста. С радостью? Нет. Слова «ненависть» и «радость» несовместимы. И не дай Бог, если в психике человека они совпадут. Это уже шизофрения.
Летом дни стояли солнечные. Во всяком случае, сейчас так кажется. Главное мучение были комары и мошка. Было жарко, но приходилось работать в москитных сетках. К счастью, часто дул сильный ветер, озера были широкие, и мошка далеко от берега не летала. Дамы раздевались до купальников. Еще минувшим летом приехавший как-то из Игарки уполномоченный назвал бригаду «сумасшедшей, голой бригадой Кошелева», так как купальника в этих местах до сих пор не видели. К тому же, стоит сказать, что некоторые купальные костюмы были настоящие «бикини». Не удивительно, что старый Кошелев «сорвался с привязи» при виде оголенных женских тел.
Озера были большие, красивые. С многочисленными остро-вами, заливами, протоками и косами. Рано утром или вечером, летом это были понятия относительные, закинув неводы в лодки, отправлялись на промысел. Приставали к берегу там, где понравилось, и забрасывали невод. В начале лета вытряхивали из невода столько рыбы, что через два-три заброса лодка была полна доверху, и приходилось плыть на берег сдавать. Но только в начале лета. Потом часто забрасывали невод впустую. Иной день хватало только на прокорм. В Щучьем и соединявшемся с ним Пеляжьем озере ловили издавна, ни запретов, ни ограничений не существовало. Ловили главным образом весной - в самый нерест. По весне мы икру ели ложками.
Во время обеда на каком-нибудь островке, где меньше мошки, разводили костер и варили рыбу. Рыбу накладывали в тут же содранную бересту и ели руками. О такой вещи, как вилка, давно забыли. Уху ели ложками прямо из котла. Иногда варили так называемую «тройную» уху. Сначала в котел кидали окуней со всей чешуей, он придает ухе специфический аромат. Выловив из котла окуней, закладывали сига или пелятку (рыбу, похожую на сига). Этих без чешуи. Затем сиг вынимали и закладывали куски чира. В такой ухе жир с палец толщиной плавает поверху. Самой вкусной озерной рыбой был чир. Голова его похожа на голову нашего сига, а рыло тупее и горбатое. Горб и брюхо - один жир. Попадались экземпляры по шесть-восемь килограммов. Рыба вкусная, не хуже, чем акульи плавники. (Акульи плавники мне есть не приходилось.) Большие сиги тоже были вкусные. Среди рыб из рода сигов в северных озерах чаще всего встречалась пеляга, или пелятка. Прочие рыбы были знакомые с детства щуки, окуни, плотва. Попадались щуки до восьми-десяти килограммов весом, килограммовые окуни.
Самым вкусным был рыбный пирог, испеченный в печи. Вернее, рыба, запеченная в тесте. Очищенную рыбу целиком, лучше всего чира весом в три-четыре килограмма, укладывали на раскатанный пласт выстоянного теста, сверху накрывали таким же пластом, края прищипывали и ставили в печь. Когда пирог был готов, снимали верхний слой теста и принимались за рыбу, закусывая «крышкой». Но самым вкусным был нижний слой теста, пропитавшийся рыбьим жиром.
Но пирог для нас был деликатесом, праздничным блюдом. Пообедав, снова принимались за работу, а потом, когда уже не было сил, шли домой. Развешивали невод на козлы и - спать. Часто не дождавшись ужина - от усталости тут же засыпали. Если рыбы было много, приходилось еще помогать приемщику и засольщице потрошить рыбу и солить.
Из города на рыбопромыслы направляли уполномоченных, как к нам в Косу минувшим летом. Надсмотрщикам надлежало следить за тем, чтобы люди как можно больше работали и как можно меньше отдыхали. Когда рыба ловилась, погонщик нам не требовался. Сами старались изо всех сил, чтобы потом не голодать. А когда рыба не ловилась, тратить силы было бессмысленно. Сколько и что мы ели, уполномоченные на сей раз не контролировали. Да и как проконтролируешь, если и сам ешь до отвала. В городе с продуктами тоже было не густо.
Ближе к осени рыба снова пошла, пока, правда, не густо. Мы выезжали на лов, взламывая веслами лед, рвали сети об острые края льдин. Когда озера замерзли, опускали ставные сети, рискуя провалиться под лед, как Кошелев минувшей осенью, так как рыба шла косяком, когда лед был совсем еще тонкий.
Зимой ставили сети, как на Енисее прошлой зимой. По озерному льду приходилось преодолевать большие расстояния, а снежный покров становился все глубже. Бригаде нужны были лыжи. С топором я уже умел обращаться, и это был единственный инструмент. В тайге надо было срубить прямую ель или березу, вырубить из ствола бревно на длину лыжи и расколоть его пополам. Из каждой половины получалась лыжа. Снег на севере рыхлый, и годятся тут только охотничьи лыжи, шириной сантиметров восемнадцать-двадцать и длиной около полутора метров или чуть больше. Это уже были настоящие лыжи, не то, что в Сопочке. Хоть и тесаные топором, но гладкие, легкие, с загнутыми концами. Снабдив всю бригаду, я начал все сначала, потому что последние пары оказались несравнимо лучше первых. Прошлой зимой почти всем дамам приходилось брести по глубокому снегу. Кошелев вытесал лыжи только для своей пассии и еще некоторым.
В ту зиму я видел, как сельдюк Лукьянов делает настоящие охотничьи лыжи из кедра. У него был специальный инструмент, похожий на скобель. (Сегодня даже не всякий знает, что это такое.) Лыжи были широкие и короткие и очень тонкие. Готовую лыжу обтягивали «камусом» (оленьей кожей, взятой с голени. При необходимости куски сшивали.) Из камуса шили обувь - «бакары», рукавицы, шапки, им украшали одежду. На камусе короткие, колючие волоски, и обтянутые им лыжи скользят только вперед, по ходу волосков. На них без труда можно взобраться на самую крутую гору. Вбок лыжи тоже не скользят.
На Щучьем обитало человек двадцать. Большинство рыбачек жили здесь с прошлого лета. Это были интеллигентные, образованные дамы, и общение с ними на протяжении нескольких лет заменяло мне книги, школу и вообще любые знания, которые можно назвать основополагающими в сфере культуры. Мне и тут повезло.
Зима была длинная и голодная. Правда, на сей раз Коше- леву не удалось сжульничать. Все счета были у нас в руках.
Документы писали на бересте - бумаги не было. Все предыдущую зиму бригада жила в долг. Украденное Кошелевым в расчет не принималось. Весь летний заработок ушел на погашение долга, и мы снова жили в долг. В аванс давали немного муки, маргарин или растительное масло и сахар. Столько, чтобы мы не перемерли с голоду. Дневную норму муки отмеряли американской консервной банкой - величиной с нашу банку сгущенки. Называли мы ее «черпачок». На такой «диете» мы сидели с января. Если в сеть попадалась какая-нибудь глупая рыбешка, это уже был праздник.
В праздники и дни рождения устраивали балы. Кипятком ошпаривали ржаную муку, жидкую мучную кашу квасили и взбивали мусс - «манну небесную». Сверху посыпали мукой, обжаренной на маргарине с сахаром. Мусс хоть ненадолго оставлял ощущение сытости. Встречаясь по прошествии многих лет, мы всегда вспоминали курьезный случай, когда я и Бирута, объевшись муссом, лежали на нарах с раздутыми животами, и я стонал: «Хоть бы на сей раз остаться в живых!»
Жиры и сахар оставляли для торжественных случаев, походов в гости - из одного угла комнаты в другой... В остальные дни варили жидкий мучной тум - «длинную» болтушку. Наешься такой, похлопаешь по животу, и жидкая каша плещется там, как в бочке. Хлеб не пекли. Кашей, по крайней мере, можно было кое-как наполнить желудок. Испечь хлеб из такой ничтожной порции муки было проблематично.
В голодные месяцы главной темой разговоров наших дам были способы приготовления различных блюд. Моя мама была непревзойденным знатоком в области кулинарии. Еще в Екабпилсе среди наших родственников и знакомых она была непререкаемым авторитетом. Слушать все это, глотая слюнки, было невыносимо, но это была часть нашей жизни - как наркотики.
Большинство обитавших в избе дам были уже в годах. Были и молодые, были и барышни. Я был самым младшим в бригаде. Люди были разные, разные характеры, и не все шло гладко и безупречно. Были и ссоры, и слезы, и обиды. Всякое бывало. Особенно в голодные месяцы. Сейчас остается только удивляться, как такие разные люди, тем более женщины, многие годы могли жить, как в космическом корабле. Спустя годы, уже в Латвии, они часто встречались. Моя мама заряжала всех своей энергией и до конца жизни пользовалась любовью и уважением старых сибиряков. Но все это в прошлом, так же как озера и изба на берегу Щучьего. Многое забылось. Да и разве можно хранить в памяти переживания, отчаяние, ненависть, то, что чувствует человек, умирающий от голода, от холода? Описать это невозможно даже в тот момент, куда уж спустя годы. Да и писать не на чем было. Разве что на бересте. Несколько страниц на обрывках бумаги и на бересте из записок моих «северянок» я считаю необходимым включить в свои воспоминания как иллюстрацию или «лирическое отступление», иначе они никогда не будут опубликованы. Да и много ли тех, кого это сейчас интересует? Много ли тех, кого вообще интересует пережитое латышским народом?
Несколько страниц из записок Ливии Краукстс.
08.04.1943. Я, г-жа Янцев и Аустра Индане ходили с озера Щучьего в Плахино за продуктами, т.е. за 75 километров. Вышли 1 апреля после обеда. Через семь километров в избе на озере Остяцком часок отдохнули. Оттуда до Носовой (18 км) шли около трех с половиной часов. Тут встретили нашего бригадира, который дал полкило хлеба. Его мы по-христиански поделили и съели. Это был наш ужин через 25 км долгого пути. На другое утро в восемь часов отправились дальше, позавтракав тумом из нескольких ложек муки. Через каждые два часа отдыхали. В лесной избе за Ереминым, где жили четыре немца, сварили такой же мучной тум.
Около восьми вечера добрались до Сопочки, где жила госпожа Брока и еще несколько латышек, которые маялись на промыслах и тоже жили впроголодь. Без сил свалились на нары. Нам помогли раздеться. Сварили тум и легли спать. Наутро отправились дальше - до Плахино оставалось 9 километров. Завернули в барак к латышам и пошли утрясать свои дела. Прожили здесь два дня. 5 апреля (я с температурой 39,5) двинулись в обратный путь. Переночевав в Сопочке, с традиционной мучной болтушкой в желудках прошли 40 километров и поздним вечером, совершенно обессиленные, дошли до Носового. Опять варили тум, ночь провели в заезжем месте, где было жарко и тесно, и нам с Аустрой досталось столько места, что едва хватало одному. Не отдохнув, наутро отправились дальше. Ночью выпал снег, и дорогу замело. Котомки были очень тяжелыми. Моя, вероятно, весила килограммов 16-17. Часто ложились в снег отдыхать. Затемно, совершенно без сил, добрались до Остяцкого. Сварили тум, переночевали и на второй день были «дома» - на Щучьем. Прошли 150-160 километров.
19.04.43. С 8.04 потеплело, началась оттепель, моросил дождь. 13.04 снова похолодало, а вчера - 18.04 - снова шел дождь. На озерах лед просел, поверху вода, ноги как в мочиле.
25.04.43. Сегодня Пасха. Нам еще не выдали столько муки, чтобы можно было испечь хлебушек. И все же в этот праздничный день мы позволили себе на «черпачок» больше, понятно, в счет будущего. Утром у нас с Гриетыней были великолепные лепешки из шести черпачков муки. Запивали овсяным тумом и сваренным из кедровой хвои «кофе» с сахаром. На обед кашка, вечером овсяный кисель, а потом кедровый чай с «песочным печеньем» (поджаренная на жире мука с сахаром - И.К.).
07.05.43. Дни длинные. И ночью не бывает совсем темно, только сумерки несколько часов. Рыба по-прежнему почти не ловится. С29.04 до 02.05 были у нас из «буквенного отдела» (НКВД) в связи с невыходом на работу 12.04. (Это событие в истории тех дней осталось как «голодная забастовка на Щучьем» - И.К.). А так как причиной был хлеб, все закончилось допросами и внушением.
Даст Бог, май перетерпим, а в июне, может быть, начнет лучше ловиться. Неважно со здоровьем. Сильно исхудала, Гриетыня тоже, но надеюсь и хочу выдержать, чтобы видеть дорогих и умереть в других условиях и в другом месте.
Наша бригада стала меньше на двух человек, а приросла тремя. Пришел немец Рихард и госпожа Кнагис с сыном Илмаром.
03.06.43. Вчера отпраздновали день рождения Гриетыни. С утра мне удалось испечь маленький крендель с сахаром и кедровой корой, обсыпанный зернами. Аустра, Ирена и Элза тоже прислали крендель. Еще мы сделали торт из одной лепешки, украсив его овсяным киселем, и сибирское «песочное печенье». Вечером сладостями угощались все девятнадцать человек.
11.06.43. Много комаров. Крупные и страшно кусаются. Нас начали изводить работой и совсем не дают отдохнуть перед большим ловом. Сегодня в тайге сдирали кору с елей. Дай Бог сил выдержать! Нервы и у сестры и у меня сдают.
На деревьях почки, но листья еще не распустились. Цветы еще не цветут, а бутонов много. Начал отрастать хвощ, который мы употребляем в пищу. Лето приближается стремительно. Что принесет оно нам?
30.06.43. Третью неделю ловим без перерыва. Спим хорошо если 3-4 часа. 27июня умерла Эдите Биелая, урожденная Аболиньш...
16.01.1944. Душа в отчаянии. Неужели же впереди еще много таких же мрачных дней, как сегодня? Нет и нет конца нашим страданиям. Рыба ловится все хуже, обходись, как хочешь. А впереди еще не один пустой месяц. Снова замаячил голод. Что делать, где искать спасения?
Давно не писала. Не было бумаги. И сил не было. Сегодня пишу, чтобы вконец не впасть в отчаяние. Недавно снова ходила в Плахино. Все латыши встретили меня очень гостеприимно. На обратном пути обморозила обе ноги. Слава Богу, поход этот позади. Не хотелось бы еще раз пережить такое.
Так хочется верить и надеяться, что настанет и для меня лучшая жизнь - жизнь свободного человека. Но надежды тают. Я даже представить себе не могу, что окажусь дома. Неужто мне суждено умереть здесь? Я хотела бы, чтобы тело мое здесь как можно быстрее исчезло, чтобы от меня на севере не осталось ничего. Хоть бы у Гриетыни хватило сил все выдержать и пережить...
В нашей будничной жизни - в аду - не так-то легко сохра-нить человечность. Доверие к людям исчезло, и все же, если поразмыслить, надо признать, что несчастны все и что такими сделало их горе. Все без исключения мы тоскуем по одиночеству и покою, по своим четырем стенам, где тебе ничто и никто не будет мешать...
29.04.44. Вот и снова весна, и снова пробуждаются надежды, что, может быть, может быть, мы выберемся отсюда.
Во всяком случае, с этого дальнего севера. Хочется кому-то молиться, чтобы сжалился, наконец, и избавил от этой жизни. И все же, как ни странно, я не жалею, что пережила эту ссылку и испытала эти лишения, потому что научилась ценить жизнь и безумно хочу жить, хотя иной раз мне это и не под силу...
Ливия Краукстс умерла в Плахино весной 1945 года. Ее сестра Гриетыня Сидере вернулась в Латвию и с ее любезного согласия с чувством благодарности я включил несколько страниц, написанных Ливией, в свои воспоминания.
Далее несколько страниц из доверенных мне воспоминаний Гриетыни Сидере.
4 нояб. 42 г. Сегодня видели необычное природное явление - три солнца. Это так
странно - весь день в трех местах сверкают три солнечных диска. Это такое же
чудо, как летом, когда мы пережили бесконечный день, а скоро наступит время,
когда светло будет всего пару часов...
12 нояб. 42 г... .Сны видим по большей части хорошие - новая одежда, красивые комнаты, встречи со старыми друзьями и знакомыми. Сердце истосковалось по человеческой жизни...
15 нояб. 42 г.. ..Вчера утром видели удивительную картину - северных оленей, запряженных в легкие санки. Всего было трое саней и 11 оленей. Удивительно красивое утро с тремя сияющими кругами в небе, блестящей дугой у горизонта, и бескрайняя снежная равнина, легкий бег оленей - эта картина надолго останется в памяти. Как красиво выглядело бы это на экране! Это и есть настоящий север...
18 нояб. 42 г. ...С памятью у всех стало плохо. Пытаемся вспомнить стихи, которые знали когда-то, но удается с трудом. В памяти сохранились только отрывки. Всплывает то строчка, то мысль, остальное все в тумане, недостижимо. Грустно, что нельзя прикоснуться к тому, что освежило бы память, что сумело бы оживить мертвого. Ум и душа словно бы заснули мертвецким сном. О Боже, наступило бы пробуждение, хоть бы раз вдохнул кто-то жизнь в отупевший мозг и в бесчувственное сердце!..
.. .Сегодня День поминовения. Как много народу в церквах в тех странах, где еще признают религию, и сколько тысяч сердец устремятся в небеса в жаркой молитве за загубленные души, за тех, кто страдает на поле боя или в тюрьмах, кто изгнан с родины во тьму!..
8 дек. 42 г... .Старательно подыскиваем что-то на ноги. «Господин» сказал, что на озеро должны идти все, дома оставаться нельзя, даже если нет валенок. И тогда мы все вместе стали думать, как бы что-нибудь придумать. Из старой ватной обуви, брезента и кусочков оленьей шкуры получилось нечто похожее на обувь, но мочить ее нельзя. А как от этого убережешься...
19. дек. 42 г... .Вчера, наконец, после долгих усилий вытащили сеть. Девять дней трудились напрасно. Ни одной рыбешки...
.. .До сих пор не сдали ни одного килограмма. Говорят, что на Филькино оставят только одну бригаду. Если ничего не выйдет с большой сетью (неводом), пусть, мол, пробуют обычной сетью. Придется идти с одной сетью на озеро за несколько километров от нас. В той избе нет ни окон, ни пола, да и озеро сомнительное, но надо пытаться...
Слышали, что в Агапитово высокая смертность. Нам трудно, но другим еще хуже...
...Наша хозяйка бывает очень грубой и безжалостной на словах. Вчера она так унижала нас, изругала до последнего. А когда мы с работы пришли замерзшие и усталые, она сказала, что ей все-таки нас жалко. Она неплохая, эта женщина, беспощадная жизнь превратила ее порой в совершенно невыносимое существо. Возможно, живи она человеческой жизнью, и она была бы более человечной...
22 дек. 42 г Вечером начали петь рождественские песни, но они быстро затихли. Сейчас очень трудно. Обид и несправедливостей, жестокости и глупости за эти полтора года нигде мы не повидали столько, сколько здесь, на Филькином озере.
Вчера был очень мрачный день. Остались без хлеба. На улице буря, землю от неба не отличить. В доме темно и холодно, и все это вместе наполнило сердце свинцовой тяжестью, и кажется, так трудно жить и бороться.
Сегодня прояснилось, метель утихла и на душе спокойно. Рано утром ходила за водой. Озеро, лунная дорожка, звезды, белый снег, и тут вдруг вспомнилась легенда о трех восточных мудрецах. Белая поверхность озера напоминала пустыню, и хотелось увидеть в небе звезду - Вифлеемскую звезду...
30 дек. 42 г 25 декабря, в самое Рождество, нам внезапно сообщили, что надо перебираться в одинокую избу на озере, о чем уже поговаривали давно. Погода была мрачная, пуржило. Идти надо по оленьим следам. Не хватает сил идти по глубокому снегу. Сердце щемит от боли оттого, что в Рождественский праздник во тьме приходится преодолевать такой дальний путь. Наконец мы на другом берегу. Начался лес. Снег здесь глубокий, чуть не по грудь. Олени ни с места. Приходится прокладывать им дорогу. Мы спотыкаемся, падаем. Прокладывать дорогу надо и по болоту, потом снова лес. Внезапно выясняется, что мы сбились с пути, предстоит сделать большой круг вокруг озера. Бредем, еле ноги переставляем, сил больше нет. Скоро утро. Шли мы всю ночь и весь день, временами прокладывая дорогу оленям. Наконец осталось только перейти через озеро, но это огромный кусок. Осталось совсем немного, но олени идти не хотят, ложатся в снег. Мы присаживаемся на сани и на мгновение проваливаемся в сон, но тут же вскакиваем. В последний раз прокладываем путь через небольшой лесок, потом еще через одно озеро и, наконец, - вот она, изба.
Мы думали, что помещение хоть мало-мальски приведено в порядок, но картина нас удручает. Изба без дверей, без окна, заметена снегом. И тут нам придется остаться! От усталости и огорчения плачем. Мы насквозь промокли, измучены и голодны. Обидно, что никто и не подумал о том, как мы будем здесь жить. Как на улице. Первая мысль - вернуться. Бригадир ничего не говорит, только везти наши вещи отказывается. Поставили в избу печурку, затопили, немного обогрелись, стало чуть легче. Решили все же остаться. Занавесили дверь одеялом, наносили еловых сучьев (пол в избе тоже отсутствует) и пару часов поспали. Баяндин разбудил нас. Надо вставать. Мы замерзли и думали, за-болеем. Закончился второй праздничный день. Сестра с госпожой Биелайс поставили сеть, а мы законопатили мхом щели в стенах и крыше. Сегодня опять предстоит спать на земле. Все насквозь мокрое. И земля, и одежда. Бьет противная дрожь.
27 дек. 42 г. Приехал Савицкий и привез хлеб. Он человечнее, заботливее. Он немного нас понимает. Вечером развел большой костер. Картина совершенно удивительная! Маленькая, одинокая романтическая изба в лесу, огромные засыпанные снегом ели, освещенные пылающим костром, и в ушах звучит: «Тихая ночь, светлая ночь!» - словно бы поет хор ангелов. Сердце оттаяло, природа умиротворенная, и тишина и одиночество столь глубоки! Кажется, все дорогие рядом - и мертвые, и живые...
30 дек. 42 г. Адриян принес лампу. Наконец едим при свете, можно немного привести себя в порядок. Спать на еловых лапах мягко. Воздух в избе свежий, ароматный, не так уж плохо, только очень холодно, ни помыться, ни привести себя в порядок. Каждый день сети. От физической перегрузки и голода совсем ослабели. Вечером после работы приходится идти на озеро в поисках дров. Весь день работаем и работаем, а в доме, если не спим, все приходится делать на ощупь, так как день -это всего несколько часов сумеречного света...
.. .Закончился хлеб. Осталось немного муки. Рыба совсем не ловится, даже на еду не хватает...
31 дек. 42 г. Отправляемся обратно на Филькино. Начинает темнеть. В дрожь бросает при мысли о трудной дороге. На маленьком озере страшно глубокий снег. Приходится идти на четвереньках. Страшно утомляет. Сестра в полном отчаянии. Но мы все же довольно быстро добираемся до Филькина, на сей раз по правильной, более короткой дороге. По озеру идти немного легче, но снег и тут глубокий. Бредем, бредем, а белой равнине нет конца. До отчаяния длинная дорога. Сестре труднее всех: все случившееся лишило ее последних сил, она еле волочит ноги. Наконец после неописуемо трудного пути под нашими ногами тропа, еще пару заплетающихся шагов, и мы на месте. Идет последний час старого года...
10 янв. 43 г Утром отправились на озеро Щучье. На полпути встретили Эрику Тобис. Веселую, сияющую. Вот радость! Она вынимает из кулька буханку хлеба, отламывает каждой из нас по большому ломтю. Хлеб еще теплый. Хлеб! Сколько сил он дает! Святой хлеб! Как этот случай согревает и трогает до слез! Едим, а слезы капают на хлеб. Идти стало легче. Кусок хлеба в желудке, и Эрика снимает с моего плеча часть ноши...
27 янв. ...Несколько дней стоят страшные холода, но на озеро ходить надо. Во
вторник к холодам добавилась метель. Ветер продувает насквозь. Выдержать можно,
только стиснув зубы. Группы расходятся каждая в свою сторону. Спустя некоторое
время возвращаются замерзшие Вера и Аустра. Да и мы, проверяя сети, закоченели.
Руки горят. Подходят Нина и Ирена. Невозможно выдержать, надо идти домой.
Обморозили щеки, нос, пальцы. У каждой где-нибудь белое пятно, приходится
растирать. Невыносимо. Обратно идем против ветра. Режет как ножом. Стынет лицо,
все тело, ум и сердце...
26 я не.... Какое прекрасное зимнее утро! Удивительное небо! В стороне
невидимого солнца - оранжевое, напротив - бледно- розово-фиолетовое, и бледный
месяц на бледном небе...
28 янв.... Вчера тянули невод на том же месте. Рыбы опять только на ужин. Сегодня приехали русские из нашей комнаты. Всех пригнали обратно. С озер уходить нельзя. Надо ловить и сдавать рыбу, только тогда будет хлеб. Не безумие ли? Что нас ждет? Сегодня мы с Лилией из четырех сетей вытащили одну рыбину. Нервы сдают окончательно...
7 февр. ...Теперь нас в двух комнатах 27 человек. Воздух тяжелый, лампа страшно коптит. Мы все в саже, белье тоже. Атмосфера невыносима как для тела, так и для души. Сколько нам еще здесь задыхаться? Русские настроены против нас очень враждебно...
.. .Сегодня пролистала книжку эссе «Утешайте друг друга», и одна строчка целый день звучала в ушах: «...и совсем позабыли, что когда-то мы счастливы были!..»
...Жизнь достигла такой низкой отметки, что трудно вообразить, каково оно, ощущение счастья. Научиться бы держать язык за зубами, сдерживаться, чтобы не росло отчуждение между мною и другими, не утратить бы ту малость внутреннего света, уравновесить физическую слабость чем-то другим, ясным в душе...
9 февр....Прошла целая неделя. Наши еще не вернулись. Ждем с нетерпением, потому что хлеба нет совсем, все истощены. ..
В последние дни потеплело, и на сердце от этого чуть радостнее. Мы счастливы, потому что нет русских. Немцы, правда, вернулись. Нельзя самовольно покидать озера. Русским можно.
8 марта... .Две последние недели февраля совсем не было хлеба, обходились мучным тумом. Муки давали понемногу, за сданную рыбу. Сами мы рыбу не ели давно, бережем, чтобы сдать...
На именины сестры сварили клецки с жидкой овсяной кашей. Да, таков наш дневной рацион, о том, чтобы наесться, и говорить нечего, но благодарим Бога, что пока есть хоть это. Так и влачим существование изо дня в день и гадаем, что нам суждено в будущем. Может быть, мы уже дошли до самого дна и дальше нас ждет что-то лучшее...
12 марта Сегодня увезли Нину - у нее цинга. Тяжелые болезни стали посещать нашу обитель...
... Открыли нечто замечательное - чай из кедровой хвои. Кора кедра по вкусу напоминает кору померанца, и когда ее пожуешь, во рту остается приятный привкус. И с хлебом вкусно - как будто шафранный хлеб. Это наша единственная зелень. Может быть, она поможет нам пережить весну, которая страшнее зимы...
.. .Сегодня авансом выдали каждой по 1 кг муки...
31 мая 1943 г. Что принесет нам июнь? О Господи, вот он, месяц наших надежд! Не случится ли что-нибудь, что-нибудь хорошее после столь мрачной жизни в плену озер?..
...В тайге снег во многих местах растаял. Кое-где можно найти бодрящие прошлогодние ягоды брусники. Однажды видели двух низко летевших лебедей - снежно-белых. Защемило сердце. Птицы вольны лететь, куда хотят, а человек должен жить «в трясине зыбкой слез»...
Полет диких гусей - тоже удивительная картина. Надо подумать над красивой книжной обложкой (Сельма Лагерлеф)...
Эти записки своих сибирских друзей я включил в свою книгу, потому что перебирать в памяти события полувековой давности - это одно и совсем другое - записывать их по свежим следам, как Ливия и Гриетыня. К тому же, как я упоминал, был я в том возрасте, когда человек готов ко всяким приключениям и переживаниям, когда многое проходит мимо сознания, а им было за тридцать, и в эти годы все воспринимается совершенно иначе.
А теперь вернусь к тому, что пережил я сам.
В бригаде сами собой стали возникать группки, пары, тройки - объединяли людей сходные черты характера, общие взгляды, привычки. Я нашел общий язык с Верой и Аустрой. Они, правда, были гораздо старше меня, обе окончили гимназию, Аустра была даже замужем, но очень скоро выяснилось, что прочел я гораздо больше. Зато они видели больше фильмов, театральных постановок, больше знали об искусстве, о художниках и прочем. Как и в Сопочке, где моими слушателями были Дзидра и Янка, и в Щучьем я целыми вечерами пересказывал Вере и Аустре все, что когда-то прочел. Купера, Сенкевича, Майн Рида, Карла Мая, Уоллеса, Фантомаса, Олда Ваверли. Рассказывал и то, что сочинил сам, что по большей части представляло «улучшенный» вариант приключений Олда Ваверли, Карла Мая и подобных им писателей. Иногда девушки разоблачали меня, но нередко признавали, что моя интерпретация зачастую интереснее. А многое я действительно придумывал сам, когда все прочитанное было пересказано. Рассказ я обычно прерывал на самом интересном месте, когда не мог ничего придумать. На следующий день придумывал продолжение для вечернего рассказа.
На Щучьем мы тоже пели. Зимними вечерами в доме, а летом пели так, что на всех озерах было слышно. Приезжавшие к нам уполномоченные просили, чтобы мы переводили слова песен. Может быть, кого-то из них интересовало, не поем ли мы антигосударственные песни. Чего они ждали от нас? «Широка страна моя родная» или «Эх, хорошо в стране советской жить!»? Неужто же они считали нас такими же идиотами, в каких пре-вратились сами?
Пели мы и русские песни. Мать Веры, госпожа Янцова, знала прекрасные русские романсы, и голос у нее был хороший. Госпожу Янцову, как и мою маму, в Латвию привел латышский стрелок. Немало русских девушек покинули свою родину, отца и мать ради латышского парня. Многим пришлось вернуться в зарешеченных вагонах вместе со своими детьми - латышами.
Мне нравились печальные русские песни. Об умирающем в степи почтальоне, о бродяге, о Байкале, об умирающей в озерном тростнике чайке, о любви, которая пылает как угли в камине...
Зимой каждый месяц оказывал нам честь своим посещением наш хозяин и «духовный пастырь» - комендант. Летом мы видели его редко, так как в это время до нас добраться было гораздо сложнее, чем зимой, - только пешком через болота, по кочкам, сквозь тучи мошкары. Зимой коменданта привозили или на оленях, или он сам приходил на лыжах.
Был такой комендант Фомченко. Кто его знает, как удалось ему увильнуть от армии. Был он здоров и откормлен, как бык. Вероятно, надзор за врагами народа было столь же важное дело, как воевать на фронте с фашистами. Однажды, кажется, это случилось во вторую зиму на озерах, после очередной побывки Фомченко, собираясь уходить, велел мне его проводить. Вначале я не понял, зачем. Бежали на лыжах по озерам, по накатанной лыжне. Тропа уходила в лес, потом поднималась в гору, мы прошли уже приличный кусок, и тут Фомченко остановился, закурил и протянул мне. И тут произошло то, о чем я уже краем уха слышал. Началась вербовка меня в «стукачи» - доносить обо всем «органам». Обещал, что я смогу очень скоро вернуться в Латвию, если буду сообщать о том, что каждый говорит и поет. Говорил даже об определенном вознаграждении. При этом он расстегнул кобуру и снял с плеча малокалиберную винтовку. Это уже было мальчишество. А может быть, в моих глазах он прочел что-то подозрительное?.. Кажется, я сделал самое разумное, что можно было сделать в такой ситуации. Притворился, что не понимаю, что он от меня хочет. Притворился глупым. Комендант начал кричать, думая, очевидно, что так я его лучше пойму. Я повернулся на сто восемьдесят градусов и помчался обратно. Несся вниз по лыжне, петляя между деревьями, убегал, не оглядываясь, ожидая пулю в спину. Теперь понимаю, что страх был напрасным. Но я думаю - если бы кто-то из ссыльных был убит при таких обстоятельствах, никто бы даже не чихнул. «Закон - тайга, прокурор - медведь».
Прибежал в избу мокрый, как мышь, и тут же все рассказал. Больше Фомченко со мной такие разговоры не заводил.
И вообще в России «синие фуражки» больше со мной таких разговоров не начинали. Дым в глаза пускали, демонстрируя презрение, и т.д. Позже, уже в геологических экспедициях, в разных компаниях даже водку с очередным комендантом пил, но сотрудничать мне больше не предлагали. Во всяком случае, в Сибири. О том, что происходило в Латвии, рассказ еще впереди.
Потом оказалось, что от подобных предложений коменданта сумели избавиться и еще некоторые - притворившись или глупыми, или не знающими языка. Например, госпожа Блума, разговаривая с русскими, употребляла известные ей слова, не заботясь о том, чтобы составить из них связное предложение. Она говорила: «Кому надо, тот пусть и составляет их, как ему нравится». Это, безусловно, было «дуракавалянье», а не незнание языка.
Не исключено, что кого-то из нас чекистам удалось завербовать, но я уверен, что таких было немного. Позже, когда мы жили в Игарке, был у нас кое-кто под подозрением, но хочется верить, что мы ошибались. Что нового надеялись узнать чекисты о нас через своих стукачей? Что, по их разумению, могли мы думать и говорить о них и о советской власти? Неужто мы должны были прославлять Сталина? Лизать руку, которая держит кнут? Мы были лишены всех прав. Когда я сказал коменданту, что хочу в Игарку, в школу, он ответил - я, мол, должен быть счастлив, что нахожусь не в лагере, так что о какой школе может идти речь? Когда через некоторое время я шутки ради сказал, что хочу в армию, в ответ услышал то же самое. Однако голосовать мы имели право (даже за Верховный Совет). И не только право, это была наша святая обязанность, за неисполнение которой грозили, мягко говоря, неприятности. И налоги надо было платить, и на так называемый военный заем надо было подписаться, и, что самое пикантное, женщины, у которых отняли мужей, обязаны были платить так называемый налог за бездетность (в народе его называли несколько пикантней). Я тоже его должен был платить. Но где же было взять ребенка? А если бы и случилось, пойди докажи, что это твое произведение.
Своим отказом служить чека я, без сомнения, нанес «сокрушительный удар» по государственному аппарату, так как одним из главных принципов, на который опиралась советская власть и который должна благодарить за то, что так долго просуществовала, была слежка друг за другом, шпионство и предательство. Советский человек был так воспитан с младенчества. А наши родители и «буржуазная» школа Латвии в нашей молодежи воспитывала убежденность в том, что наивысшей нравственной категорией является честь. И никакие примеры Павлика Морозова и подобные глупости, которыми в то время «пудрили» мозги советским детям, в латышских детях и юношах и вообще в тех поколениях не могли ни пошатнуть, ни уничтожить это нравственное убеждение. И поэтому маловероятно, что было много тех, кого чекистам удалось сломать. Но попыток было достаточно. В те времена говорить об этом было опасно, но, встречаясь позже, мы рассказывали друг другу о своих приключениях с чекистами. Вспоминали все с юмором. А тогда было не смешно.
Гриетыня рассказывала, что приезжавший в Плахино из Игарки чекист «мариновал» ее в сельсовете с десяти утра до двух ночи, заставляя подписать бумагу о сотрудничестве. Обещал самые разные блага, даже деньги, как и мне, в противном случае - тюрьма. В конце концов, велел подписать бумагу о том, что она на следующее утро явится в сельсовет, чтобы отправиться в тюрьму. Когда она пришла, как было приказано, чекист уже уехал.
В Плахино нечто подобное произошло и с госпожой Бар- щевской, только надо добавить, что зная эту веселую, остро-умную и говорливую госпожу, следовало скорее опасаться, что она завербует чекиста, а не он ее. Мария Барщевская была русская и когда-то проделала изобиловавший приключениями путь в Латвию вместе с Имантским и Троицким полками как жена латышского стрелка офицера Барщевского.
Чтобы привлечь ссыльных к сотрудничеству, использовали даже пытки. Неллия
Рабкина рассказывала, что в комендатуре Игарки ее заставили целый день сидеть на
перевернутой табуретке, пока она не потеряла сознание, и сделано это было
толь-ко для того, чтобы через нее узнать, какие песни пели и о чем говорили в
соседней квартире во время веселой вечеринки.
Были и случаи изнасилования. И были дети от чекистов. Они были высшая власть.
Высшая власть была не у партии, а у чека.
Коменданта Фомченко я спустя годы увидел во время второй ссылки в Игарке, окончательно спившегося, иссиня- черного, валявшегося по канавам.
В какое-то лето к нам на Щучье прислали пять или шесть немок с Поволжья. Кошелев назначил меня ими командовать - звеньевым. Молодые Эмма и Паулина, остальные намного старше - Марлиза, Анна Мария, Карлина. Они были очень религиозными, на два голоса красиво пели церковные песни. И тогда звенело все озеро. В отличие от наших дам немки и летом ходили в ватниках и ватных штанах, которые, намокая, мешали им забираться в лодку и вылезать. Я с ними замучился и, вероятно, бывал груб и нетерпелив из-за их медлительности (сейчас об этом сожалею).
Только Эмма и Паулина позволяли себе одеваться легче, и только они говорили и понимали по-русски. Остальные не только не говорили, но даже не понимали русского, хотя всю жизнь прожили в центре России. Кому они там, на Волге, мешали, эти порядочные, трудолюбивые, богобоязненные немки? Поволжские немцы сильно отличались от ленинградских. Последние давно обрусели. Вернее говорить - осоветились. Поволжские немцы сумели сохранить свое, немецкое, сохранить религию. А может быть, именно религию надо благодарить за то, что в них сохранились и другие положительные качества?
Если смотреть на те места с птичьего полета, большую часть пространства занимает вода. Озер и болот было множество. Рыбачили мы на большой системе озер. Озера соединялись протоками и речушками, иногда одно от другого отделяла узкая полоса земли, бывало, что шириной всего в несколько метров. Между Енисеем и нашим Щучьим находилось озеро Остяцкое, на котором рыбачили поволжские немцы, к востоку от нас лежало огромное, кристально чистое, но почти безрыбье озеро Филькино, где рыбачили немцы и несколько латышек. Все эти озера были уже как следует вычерпаны, здесь и до нас ловили многие годы и, как я уже говорил, самый интенсивный лов велся в период нереста.
Как-то осенью мы, человек семь или восемь, во главе с Кошелевым отправились по
реке, которая вытекала из нашего озера в северном направлении и впадала в озеро
Тунгусское, где уже давно никто не ловил. Весь день тащили лодку волоком по
мелкой воде, местами по голым камням. Весь день под крики «Эй, ухнем!» и
«Раз-два, взяли!», пока не добрались до цели.
Тунгусское озеро небольшое, но рыбы в нем было много, и непуганой. Щука и чир,
как большие поленья, которые кидали в топку енисейских пароходов. Да и сигов и
пеляток таких крупных мы нигде не видели. Ограничивало лов только отсутствие
соли. Ее мы возили через все Щучье, потом по лесу до Тунгусского тащили мешки на
спине, потом через Тунгусское снова на лодке. И так каждый день, отдыхать
позволяли себе всего несколько часов. Все лето вытаскивали сети полупустыми и на
тебе - такое богатство! Рыбачили восемь, десять часов, столько же таскали соль,
чтобы хватило на весь улов. Сами рыбу потрошили, сами солили. Жили в
избе-развалюхе, рубленной очень давно. Потолок, одновременно служивший крышей,
грозил вот-вот обвалиться. Подперли его бревнами. Километрах в шести на восток
от Тунгусского обнаружили еще одно озеро, Кошелев назвал его «Бедовое» (можно
перевести и как «Отменное»). На него он возлагал большие надежды. Истины ради
стоит сказать, что Кошелев был наделен качествами, которые импонировали. Он так
и бурлил идеями, своего рода романтик, искатель.
Зимой принялись рубить на Бедовом избу. Это был первый сруб в моей жизни. Тут я
научился плотничать, и дело мне это очень понравилось. Все делали только пилой и
топором. Даже дверные косяки и проемы окон вытесывали без рубанка, то-порами.
Потолок, пол, двери, стол и скамьи - все вытесали из колотых бревен. Когда из
половины толстого бревна листвен-ницы вытешешь гладкую, словно струганную,
половую доску, так что даже старику не к чему придраться, чувствуешь себя
настоящим мужчиной. Лиственница была темная, с красным от-тенком, как красное
дерево. Когда она высохла, стала твердой, как кость. Столешницы вытесали из
одного куска - из огромной лиственницы.
Изба получилась четыре метра на четыре. Вдоль одной стены поставили нары.
Потолок покрыли толстым слоем мха и еловыми лапами. Зимой до еловой коры не
добраться. Рядом поставили еще одну избу - вдвое меньше первой, для Кошелева и
его новой невесты. Сердце старого ловеласа не могло утихомириться. Еще на Щучьем
он оказал честь почти всем нашим дамам, предлагая свои мужские услуги, и даже
пошел по второму кругу, но напрасно. А потом всем на удивление одержал победу
над одной из наших молодых товарок. (Не хо-чется говорить - самой красивой,
чтобы не обидеть остальных наших дам, когда они будут читать эти строки и
вспоминать былые времена. Но почти уже и вспоминать некому: из наших дам
осталось всего несколько.)
Есть у североамериканских индейцев старинное присловье - женщина что мотылек,
перелетает с цветка на цветок, а сядет там, где стояла лошадь... Похоже, это был
как раз такой случай. Но не мне кого-то судить и оговаривать. По крайней мере,
из-за этой второй невесты Кошелева (назову ее N1.) никто не страдал, моральные
страдания испытывали только ее мать и сестра. Надо сказать, что одной из причин,
если не главной, почему Кошелев так стремился на дальние озера, подальше от
Щучьего, было желание скрыться с глаз матери N. и прочих старых дам.
Какое-то время в избе на Тунгусском мы жили втроем - Ко-шелев, N. и я. Мы с Кошелевым на Бедовом рубили избы, а N. весь день оставалась одна. После работы, желая подразнить Кошелева, я часто говорил, побегу, мол, быстрее, может быть, у N. не хватило дров или воды приготовить ужин, убегал вперед, не слушая криков старика. Кошелев со своими обмороженными пальцами на ногах угнаться за мной не мог и приходил намного позже.
Может быть, потому, что я, как, впрочем, и большинство тогдашней молодежи, получил «неправильное воспитание», т.е. вообще не получил сексуального воспитания, во мне с самого детства было заложено прежде всего уважение к женщине, или, может быть, в каком-то отношении я отставал в развитии, а может быть, слишком жива еще была память об умершей Дзидре, но мне даже и в голову не приходило «подрубить под корень» Кошелева - мне просто нравилось его дразнить. Не раз он заходил в избу задыхающийся и злой, пытаясь, правда, не проявлять ревности. Я старика не очень-то боялся, но безопасности ради ружье его все-таки испортил. Застрели он меня, вины бы на нем не было.
Через много лет, когда я оказался на севере второй раз, слышал, что старый
сердцеед в конце концов сложил голову на «алтаре любви» - таскаясь за очередной
дамой сердца, он погиб где-то в тундре в районе реки Таз.
И любовь Кошелева с озер Тунгусское и Бедовое, красивая девушка 1\1., тоже
давно умерла, но я только недавно узнал, что 15 июня 1941 года чекисты и местные
комсомольцы вытащили ее из вагона и в близлежащих кустах изнасиловали. Сейчас
вспоминается, что N. была странноватая, безразличная ко всему, словно
оцепеневшая, как будто была старше своих лет.
Была середина зимы, мы собирались ставить на Бедовом подледный невод. Изба была готова. Со Щучьего пришла основная часть бригады. Набилось нас в избе как сельдей в бочке. Спать можно было только на боку, на другой бок поворачивались все одновременно.
Лед был почти метровой толщины. Чтобы спустить невод, приходилось пробивать по кругу чуть не сотню лунок на одной из площадей озера. Таких было на озере несколько, соединялись они протоками. Дни были короткие, длились всего несколько часов, и лунки мы пробивали несколько дней. Под толстым слоем снега лед проваливался, и из лунок проступала вода. Деньденьской мы бродили по мокрой снежной каше. Вечером развешивали обувь, портянки и носки вокруг железной печки, чтобы утром надеть если не сухие, то, по крайней мере, теплые, как делали когда-то в Сопочке. Дежурная обычно поднималась раньше, готовила завтрак. Завтракали всегда рыбой. Она еще осенью хорошо ловилась на Тунгусском и Бедовом. Когда рыба была готова, дежурная будила остальных.
Как-то утром, обуваясь, Ирма долго и безуспешно искала носок. Сели завтракать. Дежурная сначала налила всем рыбный бульон. Кто-то заметил, что рыба, на его взгляд, подгорела, потому что суп имел странный привкус. Когда суп был съеден, хозяйка положила всем по куску рыбы. Последним из котла вместо рыбы она достала исчезнувший Ирмин носок...
Когда лунки были готовы, стали спускать под лед невод. Тянули его примерно по той же технологии, как тянули сети, только был он длиной в несколько сот метров и тянули его лебедкой. Лов подледным неводом был напрасной тратой сил и времени. На один заброс уходила неделя, а то и больше и почти всегда его вытаскивали пустым: даже на еду не хватало. Кормились тем, что попадало в ставные сети, которые ставили на Бедовом напротив избы и на Тунгусском озере. Озеро наше было к тому же завалено упавшими деревьями, невод рвался, и мы лишались огромных полотнищ. Если бы мы потратили это время на заброс ставных сетей, наловили бы в десять раз больше. Ползимы прошло, а мы ничего не заработали. Но из города шли приказы, и приходилось их выполнять. Так мы промучились всю зиму, утопая по колено в снежной каше, мокрые днем, часто и ночью, потому что снег на крыше, если его вовремя не успевали убрать, таял от поднимавшегося тепла, и вода стекала вниз. Позже мы узнали, что из лова подледным неводом ни у кого ничего путного не вышло. Забрасывали впустую, рвали невод, оставляя половину полотна под водой.
За многие годы, прожитые в России, я пришел к выводу, что русская поговорка «Хоть пень колотить, лишь бы время убить» соответствует истине. Очень самокритично со стороны русских. Интересно, когда возникли эти пословицы? В старые времена или уже при советском строе? Возможно, эти высказывания характерны не столько для русского народа, сколько для системы, которая изнасиловала и трансформировала людей, превратив их в лентяев, которые думают не о том, как заработать, а как отнять у того, кто заработал.
Летом на Бедовом нас одолели медведи. Пять их было или шесть. Привлеченные запахом рыбы, они подходили к самой избе. Как-то, открывая дверь, Кошелев толкнул медведя, который лакомился выброшенными отходами. Рядом с нашим жильем текла речка. Однажды утром, умываясь, я увидел на другом берегу медведя. Речка мелкая, шириной каких-нибудь метров шесть-семь. Медведь поднялся на задние ноги, заревел и, отступая задом, убежал в лес.
Недалеко от нашего жилья мы поставили навес из березовых шестов и еловой коры. Посреди навеса - стол для разделки рыбы, вокруг стола - бочки. Навес продувало с двух сторон. Однажды, вернувшись с лова и сдав всю рыбу госпоже Баумане, которая ее сортировала и солила, мы сладко уснули. Разбудили нас крики госпожи Баумане. Под навес пожаловал медведь и лакомился под столом рыбьими внутренностями. Очевидно, запах протухших кишок был настолько силен и неотразим, что медведь не заметил женщину, которая, наклонившись над стоявшей почти рядом бочкой, укладывала в нее рыбу. Похоже, они заметили друг друга одновременно, и неизвестно, кто из них испугался больше. Медведь пронесся через стену из еловой коры, неся на спине стол, а госпожа Баумане, размахивая руками, с криком бросилась в дом.
Часто, расставляя сети, одним концом мы крепили их к ку-стам, росшим на берегу,
вторым - к шесту, вбитому в дно озера. Не раз медведь вытаскивал сеть с рыбой на
берег и, конечно же, не выбирал их по одной из ячеек, как мы, а вырывал вместе с
кусками сети. Как-то медведь порвал сушившийся на козлах невод - от него несло
рыбой и, возможно, в нем запутались какие-то рыбешки.
Однажды медведь пытался столкнуть в воду лодку, напо-ловину вытащенную на берег,
и это ему удалось бы, умей он развязать толстую веревку, которой лодка была
привязана к березе. Березка склонилась до самой земли. В сердцах медведь стал
бить лапой по борту и оторвал верхнюю доску.
Винтовку Кошелева, как уже сказано, я испортил в целях самообороны, так что стрелять было не из чего. Мы смастерили специальный капкан, так называемую «кулему», из толстых еловых бревен, но ни один медведь в него не попался. И это хорошо. Никакой ненависти к медведям я не испытывал. А еды хватало и без медвежатины.
Загорелась тайга, и медведи ушли. Пожар в тайге страшен. Зеленые ели горят с гулом, пламя поднимается на высоту не-скольких елей. К счастью, в этих местах лесные пожары носили локальный характер, так как многочисленные озера и болота не давали огню распространиться, да и погода была дождливая.
Осенью медведи появились снова, но в это время к нам приблудился пес Пират. Настоящей сибирской лайкой он не был, но что-то похожее, и смелый, как лев. Стоило только крикнуть: «Пират! Медведь!», как пес мчался в лес. Обежав вокруг избы и, убедившись, что медведя нет. Пират возвращался. Медведи боятся бесстрашных собак. Интересно, что не все щенки из одного помета одинаковые. Одни боятся медведя, другие нет.
На маленькой лодке я избороздил всю озерную систему Щучьего - большие и маленькие озера, речушки и протоки, соединявшие их. Мне тогда и в голову не приходило, что через много лет моим увлечением станет водный туризм.
В северной оконечности Тунгусского озера из него вытекала речушка. Однажды мы с Кошелевым отправились вниз по этой неширокой, всего метра два, речушке. Кошелев надеялся, что она приведет нас на какие-нибудь таинственные озера, где еще никто не бывал. В сумерках остановились на ночлег. Вытянули лодку на берег высотой полтора-два метра и разожгли костер. Я спустился с обрыва набрать воды и, хотя было уже довольно темно, заметил, что в небольшом заливчике, или в речном аппендиците, вода словно кипит. Вглядевшись, понял - в заливчике полным-полно хариусов. Мы быстро забаррикадировали выход из заливчика камнями, стали хватать рыбу руками и бросать на берег. Как это делает медведь. Воды было едва по колено, и рыба там буквально кишела, но любой рыбак, которому приходилось иметь дело с хариусом, знает, как трудно удержать его в руках. Потом мы стали бросать в воду камни, пытаясь оглушить рыбу. Хватали одуревшую рыбу и бросали на берег. За пятнадцать-двадцать минут выбросили всю рыбу, во всяком случае, килограммов пятьдесят-шестьдесят. Улов погрузили в лодку, и ее пришлось тащить волоком по камням. Тяжелый груз затруднял наше продвижение вперед, но рыбу бросить было жалко.
Никаких озер мы не нашли. Через два дня добрались до Енисея. Речка впадала в Енисей напротив Филькина острова. Немцы и калмыки косили здесь сено, и рыбу, которая уже начала портиться, мы отдали им. Стоит сказать, что рыба, даже подпорченная, не становится ядовитой (до определенных пределов, разумеется). В некоторых регионах, например на Байкале и в окрестностях Архангельска, считается даже деликатесом соленая рыба с душком. А вот со стерлядью и осетром надо быть осторожней. Испорченными можно отравиться.
Минуло еще одно лето, и снова впереди зима, на исходе которой нас, как обычно, ждал голод. Долги наши росли, а еще надо было подписаться на заем, чтобы помочь стране воевать. От нас тоже ждали помощи. Категорически требовали.
Взяли в армию нашего завмага Артура Розенберга. Он был из российских латышей и еще мальчишкой вместе с родителями в 1929 году попал на север. Такая судьба постигла в России многих жителей латышских деревень - жили они чуть лучше, чуть богаче русских. Роль играло и происхождение - если ты не русский, значит, потенциальный враг. Лозунгом об интернационализме прикрывали геноцид малых народов и великорусский шовинизм. В начале войны репрессированных во время коллективизации кулаков в армию не брали, но когда стало совсем туго, кулакам простили их грехи и стали брать в армию. Так наш магазин остался без продавца. На такую должность болвана не поставишь, это понимал каждый, и исполняющей обязанности заведующей назначили Веру. Вера по своим служебным делам часто бывала в Игарке и привозила оттуда свежие новости. Радостных не было. Латышей в городе все больше. Многие из тех, кого вначале разбросали по окрестным озерам и берегам Енисея, со временем перебрались в город. Здесь тоже надо было кому-то работать. Значительная часть русских горожан была мобилизована.
Однажды из города Веру проводил Волдемар Либрехт. На неделю он скрасил нашу монотонную жизнь. Волдис до ссылки закончил университет и увлекательно рассказывал о студенческой жизни в Латвии, о корпорациях. Мы узнали много нового, неизвестного. Кое-что о веселой студенческой жизни я слышал от отца. Да те же самые «бурсацкие» песни, хотя мой отец учился в Москве. (До Первой мировой войны в московских вузах было полно латышей.) Волдис знал многих знаменитостей, среди них и Эмилию Беньяминь, в доме которой он жил. На устраиваемых ею балах встречал Вилиса Лациса, который только благодаря ее поддержке получил возможность широко публиковаться, обрел популярность. Волдис знал много случаев из жизни охотников в Латвии. Все это обогащало меня, будоражило воображение. Только щемило сердце и охватывало отчаяние, когда я слушал эти рассказы и думал о том, что мне никогда ничего подобного не увидеть, все это пройдет мимо - и университет, и корпорации, и театр, балы, веселая охота, что, может быть, никогда не увижу не только Ригу, но и свой родной Екабпилс и вообще Латвию.
Я начал подумывать о бегстве в Игарку. Откровенно гово-ря, мне сильно поднадоело наше дамское общество. В город ушел Илмар Узанс. Он, правда, уже работал трактористом, а в городе это была нужная специальность. И мать его оставалась не одна, у Илмара было две сестры. Оставить маму на озерах одну я не мог.
В нашей жизни ничего не менялось. Летом рыбачили, зимой главным моим занятием была охота. Приключений было хоть отбавляй, ими богата жизнь каждого охотника. Когда-то, читая охотничьи рассказы Виталия Бианки и других писателей, думал, что многое выдумано, что так не бывает. И вот самому пришлось пережить много невероятного.
Большую роль на охоте играет удачливость или нечто трудно объяснимое, присущее только настоящему охотнику. Возможно, это интуиция, инстинкт, какое-то шестое чувство. В этом отношении Янка меня опережал. Это стало понятно в первую же зиму в Сопочке. Расставшись, мы встретились через несколько лет в Плахино. В последний раз. На далекой богатой реке Таз Янке везло и как рыбаку, и как охотнику. Он подружился с туземцами, которых в том регионе, на левом берегу, было довольно много. За пару бутылок спирта Янка выменял у туземцев нескольких оленей. В Тюменской тундре зимой во время охоты на песцов ему отчаянно везло, он разбогател и стал знаменитым.
Мне на охоте не везло. Может быть, потому, что к этому занятию всегда относился с предубеждением. С детства. На се-вере охотился только, чтобы выжить. Занятие это навязали мне против воли. Конечно, с одной стороны, это было интересно, романтика. Увлекательные походы в тайгу - по следу белки, чтение сложной «таежной книги», ночевки у костра. Интересно было, ощутить в себе проснувшуюся этакую первобытную силу, инстинкт, которым наделены звери и туземцы. Но, к сожалению, все это было связано с убийством. Часто, особенно когда было не очень холодно, зайцы в капкане были еще живы, и их приходилось убивать. Я слышал, что кролика можно убить ребром ладони по затылку. Не знаю, как с кроликом, но зайца таким способом убить мне не удалось. Возможно, я недостаточно тренировался, ударяя им по краю стола, когда после вторжения русских мы, мальчишки, пытались освоить приемы джиу-джитсу (чтобы бороться с оккупантами). Я лишил зайца жизни, сжав его сердце. Крохотное сердце билось в моей ладони. Еще и сегодня мне неприятно об этом вспоминать...
Помню, как меня, совсем еще маленького, отец взял с со-бой на охоту. Сам отец не охотился, но у него было много дру-зей и знакомых среди охотников (как впоследствии и у меня). Устроили большую охоту, на которую, как на веселый пикник, собрались все екабпилсские «сливки общества». Недалеко от моста Зельтю - ниже Екабпилса - во мху лежали убитые зайцы и косули. У зайца из носу сочилась кровь. Мне было жалко зверька до слез. Не забуду и подстреленного браконьерами лося. Отец, как командир айзсаргов, имел, очевидно, какое-то отношение к ловле браконьеров. Лось лежал во дворе полицейского участка, огромный, больше лошади. Рога у него были большие и плоские, как лопаты для снега. Даже мертвый он был по-королевски красив. Как могла подняться рука против такой красоты? Я не отрицаю охоту. С удовольствием ем зайчатину, мясо косули или дикого кабана, но добытое в честной борьбе, один на один, а не во время охоты с гончими, когда загнанный зверь полужив от страха и ему некуда бежать, только навстречу пуле охотника. Точно также можно зайти в хлев и перестрелять все равно предназначенных на убой буренок. Если поблизости нет быка...
Во всяком случае, я гораздо выше ценю охотника, который идет в лес один (если только пользуется разрешенными средствами), чем господина, обвешанного биноклями, кинжалами и патронташами, как рейнджер из джунглей, который, устроив-шись на вышке, ждет, когда в прицеле появится заяц, доведенный гончими до «кондрашки». А если еще кто-то в подобном виде «спорта» видит некий особый признак мужественности? Ну, извините!.. Я могу еще понять славного австралийского Крокодильского Арвида. Крокодил все же очень неприятное созданье. Но когда я вижу своего соотечественника, дальневосточного бродягу, так называемого Лачу (Медведьева) Андрея, сфотографированного рядом с шестью поваленными им собственноручно медведями, у меня возникает огромное желание, простите за грубость, «съездить по морде» этому «царю природы».
Я отнюдь не считаю, что все должны со мной согласиться и что мне одному принадлежит истина в последней инстанции. Я только высказал свою точку зрения.
В отличие от левого берега Енисея, который до самой Оби населяли различные местные племена, правый берег, где находились наши озера, был абсолютно безлюден. От Игарки на юге до Дудинки на севере и на сотни километров на восток от Енисея, сколько не иди, не встретишь ни одного туземца. Причиной тому был какой-то мор, свирепствовавший в этих местах в начале столетия. Это была так называемая сибирская язва или даже чума. Вымерли целые племена до последнего человека. И олени, и собаки. С тех пор ни один туземец здесь не то что не селился, но и ступить на правый берег остерегался. Во время странствий по этим местам я не раз натыкался на захоронения туземцев, находил кости людей и оленей, остатки нарт и чумов.
В северных регионах Енисея обитали десятки разных народностей: долганы, нганасаны, ненцы, эвенки, селькупы и другие, которых в то время насчитывалось лишь несколько сот, а то и десятков человек. Деградацию и уничтожение, которые в свое время не успели завершить корыстолюбивые царские купцы, успешно продолжили в сталинские времена коммунисты, проводя интернациональную политику и коллективизацию. Не было охоты за скальпами, физического уничтожения местных племен, как в свое время в Америке. В Сибири малые народы были просто лишены привычной среды обитания или им предлагали неприемлемые условия жизни. Все делалось во имя якобы высокой цели - равноправия народов, искоренения расизма. Малым народам навязали образ жизни «старшего брата». Результаты потрясают!
А что произошло с нами? Разве и мы не утрачиваем характерные только для латышей качества и не приближаемся к русско-латышско-чучмекскому стандарту? Или все это уже в прошлом? Временами меня одолевают сомнения.
Не помню, где меня застало сообщение о конце войны и как это произошло. Во всяком случае, ни в ком из нас это никакого восторга не вызвало. Исчезли все надежды вернуться домой. О событиях в Латвии сведения до нас доходили очень скупо.
Никому мы там не нужны, только близким. Началась переписка, но очень осторожная. Не каждый осмеливался писать. И боялись не без основания. По скупым сведениям, приходившим из Латвии, можно было понять, что сразу же после возвращения русских начались репрессии. Новому советскому правительству даже в голову не пришло поинтересоваться судьбой тысяч женщин и детей в Сибири. Все калнберзини, кирхенштейны, лацисы, пельше и прочие предатели нашего народа плевали на нас. Они дрожали только за свою шкуру. Наши места в Латвии заняли многие из тех латышей, для кого после революции второй родиной стала Россия, а тут вдруг в них вспыхнула любовь к своему отечеству. Мало, правда, их осталось в России после «чистки» 1937 года. Зато после войны в Латвии осталось немало «освободителей» других национальностей, которые воевали с немцами. Многие заняли высокие посты. Им-то уж до нас не было никакого дела, да с них и спрос был невелик. А наши соотечественники в России были так напуганы в тридцатые годы, что всю жизнь жили в постоянном страхе, и даже если и хотели побеспокоиться о нас, просто не осмелились. Но они и вспоминать о нас не хотели. Нам в Латвии места больше не было.
Промысел на наших озерах прекратился. И на Щучьем, и на Остяцком, и на Филькином. Если не ошибаюсь, шел 1945 год. Рыба совсем не ловилась. Последняя зима была особенно тяжелой. Муку уже с декабря стали брать в долг, давали лишь столько, чтобы не умереть с голода. Наш магазин ликвидировали, муку приносили из Носового.
Однажды, охотясь в тех местах, к нам заглянул сын прежнего председателя колхоза Петрова Иван. Он только что вернулся с фронта, демобилизовался по ранению. Я долго еще вспоминал этого человека с большой благодарностью. Не забыл и сейчас. Как Селезнева, как многих других, которых мне по мановению волшебной палочки довелось встретить в решающий момент. Иван спас меня от голодной смерти. Не только меня, всех, еще остававшихся на Щучьем. Иван научил меня ловить зайцев пастями. Всю весну я снабжал нашу бригаду зайчатиной. Случалось, в день приносил трех-четырех зверьков. Чтобы разделить мясо приблизительно поровну, во время варки добавляли в воду немного уксуса. Мясо разваривалось до волокон, и делить было легко. Разделывая тушки, я собирал кровь, добавлял к ней муку и пек лепешки прямо на железной печке.
Ловля зайцев весной была настоящим злодейством, преступлением по отношению к природе. У зайчих уже был приплод, по шесть-восемь зайчат в животе, но никто с этим не считался. Я тоже. Никаких инспекторов, никаких запретов не было. Каждый ловил и убивал, что мог и как мог. И так происходило не только во время войны, так продолжалось все годы советской власти. Виноваты были не только страшная нищета и голод, но и отсутствие чувства хозяина; до этого русского крестьянина довела коллективизация. Все принадлежало всем, и никто не считал себя хозяином. Каждый стремился как можно больше взять, и у природы тоже, а вот что-то дать, сохранить - такое и в голову не приходило.
Научил меня Иван мастерить и ловушки на горностая. Они действовали по принципу арбалета, и так как были сделаны из дерева, зверьков не отпугивали. Многому полезному и необходимому научил меня Иван.
Война, кажется, еще продолжалась, когда мне выдали ружье на отстрел белок. Выдали только на зиму. Весной огнестрельное оружие надлежало вернуть (словно бы отстрел русских я планировал на лето). Иногда давали одностволку, иногда малокалиберную винтовку. В цель я стрелял неплохо. Стрелять насучили в школе на уроках военного воспитания и в летних лагерях мазпулков, и если какая-то белка оказывалась на мушке, она была моя. Однако выследить белку, пойти по следу, определить, долго лиона убегала, стоит ли за ней гнаться - эту науку освоить самостоятельно было трудно. И этому научил меня Иван. Дела на охоте пошли успешней. По натуре Иван был не настоящий сельдюк, свои знания не скрывал. Ловля зайца пастьями тоже имела свой секрет. Я уже сделал не одни силки по Иванову образцу, но ни одного зайца не поймал. Иван только смеялся, а когда открыл секрет, зайцы стали попадаться один за другим. А секрет был прост. На веточки с почками, которые служили приманкой, надо было помочиться...
Избы на озерах опустели. Я один бродил по окрестностям в поисках охотничьих трофеев. Случалось подстрелить двух- трех белок, но, бывало, исходишь десятки километров, и все впустую. Попадалась так называемая «огневка», с ярко-рыжим хвостом - за ней надо было весь день бежать по следу. Ночевал по большей части в тайге у костра, дни в середине зимы короткие. Пару часов сумерки, потом снова темень. Только отыщешь в сумерках беличье обиталище, как наступает ночь. Приходится разжигать костер и ждать наступления следующих сумерек.
Ах, как после длинной, мрачной зимы мы ждали первых солнечных лучей! Ликуя!
Забирались на крышу, на деревья. Как солнцепоклонники. Американские индейцы
чероки при-ветствуют солнце каждое утро...
В тайге бояться было нечего. Волки, я уже говорил, в этой местности не
встречались. Только в последнюю зиму - в 1947 году - однажды в тихую
безветренную ночь я услышал до-носившийся издали вой волков. Рысь и росомаха
боятся огня. Неприятный зверь росомаха. Она нападает на человека сзади, прыгая с
дерева. Но это случается редко. Однако я несколько раз замечал, что росомаха
следует за мной по пятам.
Иногда ночевал в заброшенной избе. Когда нечего было курить, поднимал доски и искал под полом случайно завалившиеся окурки.
Пробежать на лыжах пятьдесят-шестьдесят километров в те годы было для меня сущий пустяк. Причем без отдыха. Не однажды доводилось бегать в Плахино - через все озера без остановки. По прямой, на сворачивая в Носовое, километров пятьдесят. Выпив у мамы чаю, шел в клуб на танцы. Было это, правда, уже в послевоенные годы, когда не приходилось думать только о еде, и ветер уже не валил с ног.
Безусловно, не все было так просто. Многое в моих воспоминаниях остается за кадром. Были и горе, были трудности, описать которые невозможно. Я помню все. Только кажется, что многое я пережил не сам, а словно бы видел в каком-то кинофильме. В дурном сне. В шестидесятые годы, когда я уже жил в Риге, ко мне в гости приехала двоюродная сестра Оля из Ташкента. Мы с женой показали ей красивые места Латвии. В Терветском парке, ожидая автобуса, рассказывали сестре о нашей прошлой жизни и моих приключениях. Рассказывал не я, а моя жена, которая знала все до мелочей. Я слушал, раскрыв рот. Неужели все это происходило со мной? Сестра плакала. Ничего подобного она до этого не слышала и даже представить себе не могла. Оля была гораздо младше меня, не пережила 1937 год, и о тетушке Марии, сестре отца, и ее сыне (т.е. о маме и обо мне) мои ташкентские родственники осмелились говорить только после 20-го съезда, да и то на кухне, чтобы не слышал ребенок.
Одной из бед, которая преследовала многих и однажды зимой и меня, было воспаление почек или мочевого пузыря. Идешь, бывало, по Енисею или по открытой равнине и кажется, что ты голый - нет на тебе ни ватника, ни ватных штанов. Очень неприятная болезнь. Часто приходилось расстегивать и застегивать штаны, руки леденели, а это уже была смертельная опасность. Из-за этой напасти не раз я оказывался в критической ситуации.
Обмороженные, покрытые черной коркой щеки были обычным явлением, мелочью. Больше всего я боялся обморозить ноги. В детстве, оказавшись в больнице, я видел, как многие в старости лишались обмороженных еще в юности ног.
Мучили нарывы. Не знаю ни одного «северянина», кого бы обошла эта беда. Непонятно было, отчего они появлялись. То ли от укусов мошкары, то ли от чего-то еще. Возможно, от обморожения, возможно, чего-то не хватало в организме, возможно, так проявлялась цинга? Особенно эта напасть мучила нас в первые годы. У меня вся голова и ноги были в нарывах и язвах. Лекарств никаких не было. Лечились, кто как умел. Еще лет десять после возвращения с севера ноги мои были в синих пятнах.
Крошились зубы. Без боли. Оставались только корни. Это было довольно распространенное явление и тоже, кажется, одно из проявлений или последствий цинги. У некоторых зубы начинали шататься и выпадали вместе с корнем.
Неприятностей, которые портили здоровье и жизнь, было достаточно. Помню, наступали минуты, когда не хотелось жить, когда умереть казалось гораздо легче, чем продолжать бороться, когда наступало бессилие и равнодушие. Апатия. В такие моменты «костлявая» была совсем близко.
Не переоценить роль, которую сыграли в моей тогдашней жизни герои книг Джека Лондона. В тяжелые минуты я не раз вспоминал персонажей своего любимого писателя, сильных людей. Вспоминал человека, который десятки миль прополз по тундре, сопровождаемый таким же старым, слабым, голодным волком. Вспоминал Смока Белью, Кида, «Белое безмолвие». Из рассказов Джека Лондона я знал, что нельзя разводить костер под заснеженной елью, знал, как коварны зимой берега речушек и ручьев. Вспоминался рассказ о двух неудачниках, которые погибли только потому, что поддались апатии, лени, равнодушию и взаимной ненависти и ненасытности, что перешли рубеж, который отделяет человека от животного.
Возможно, я слишком задержался в детстве, в мире книг, но в первые годы на севере я старался внести в жизнь элемент игры.
На севере многое напоминало прочитанное. Были «три солнца в небе» Джека Лондона, было «белое безмолвие», столь романтичное и увлекательное в книгах, но страшное и для многих роковое в Сибири. Были избы в тайге и медведи. Не было только золота и романтического кабачка в Клондайке. А маленькие, кривоногие, ставшие рабами алкоголя коренные жители сибирского севера были мало похожи на гордых индей-цев Джека Лондона и эскимосов Рокуэла Кента.
Можно только диву даваться, как, вечно замерзая, стоя в ледяной воде, мы не часто простуживались, не болели гриппом, ангиной и подобными хворями. Даже насморк бывал редко у кого. А если кто-то и заболевал, то болезнь как появлялась внезапно, так внезапно и проходила. У меня на Бедовом однажды поднялась температура. Я даже бредил, начались галлюцинации. В таком состоянии я брел по холодной воде, волоча невод, пока не свалился прямо в воду. Товарки смеялись, мол, вода в озере зашипела, словно в нее бросили раскаленный камень. Вечером напился горячего чаю и на следующее утро уже был на ногах. Очевидно, полярный климат вирусам не по вкусу. Многим другим бактериям север тоже не очень нравится; процессы брожения и гниения тоже протекают медленнее. Нам там только гриппа, ангины и туберкулеза не хватало! Весной, когда после голодной зимы, мы вволю отъедались рыбой, все начинали «стрекотать», но это был обыкновенный понос, который мы лечили отваром конского щавеля. В то время мы пели так, что разносилось по всем озерам: «Ешь яблоки и сливы, джим-лай-руди-ра, снимай штаны-ка живо, джим-лай-руди-ра, джим-лай, джим-лай, джим-лай-руди, джим- лай-руди, ра-са-са!» В Агапитово эпидемий тоже не было. Если бы эпидемии нас одолели, то все там и остались бы. Но однажды весной в Плахино начался тиф и дизентерия. Одновременно. Они унесли немало жизней - Ливию Краукстс, Путныньша и Дзидру Шмит, еще многих, чьих имен я уже не помню. Латышей, немцев, калмыков и местных русских. Мою маму спасло ее потрясающее жизнелюбие. Мне так кажется. А может быть, коктейль из спирта и варенья, который заставлял ее пить Путныньш. Я тогда был далеко от Плахино, на озерах, и даже не знал об эпидемии. На Енисее начался ледоход, и никакой связи с другим берегом не было.
Не раз я думал о том, что было бы со мной в Сибири, если бы в 1939 году не прооперировали мою несчастную ногу. С самого рождения, а то и раньше, у меня был дефект правого тазобедренного сустава. Я рос, и дефект становился заметней - с каждым годом нога все укорачивалась. Это сказывалось на всем организме и на психике. Меня освободили от физкультуры. Постепенно я превращался в хилого ребенка. Отец, конечно, делал все, чтобы я развивался физически, чтобы не возник комплекс неполноценности. Вдвоем мы часто ходили в походы - летом пешком, зимой на лыжах. Позже я понял, что делалось все это ради меня. Отец проводил со мной очень много времени. Во время походов он о многом рассказывал - о географии, истории, астрономии. Уже в раннем детстве я хорошо ориентировался в звездах. Отец рассказывал, как воевал, рассказывал о своих студенческих годах. Мы шагали в такт распеваемых нами старых песен стрелков. Любимая песня отца дословно звучала так:
«Пусть даже скала и камень расколются,
Мы все же смело встанем!
Вперед, юноша, на крыльях ветра,
Когда Отечество в бой за свободу зовет!»
Это была песня старых латышских стрелков. Мне кажется, что она родилась в России, когда стрелки, разгромив белых генералов, разными путями устремились в Латвию, чтобы уча-ствовать в ее освобождении.
«Хоть было суждено уйти нам далеко,
Пожмем друг другу руку на прощанье.
Воскликнем - сыновья и братья, латыши,
Мы должны быть с народом и отечеством!»
Эта песня навсегда осталась в моей памяти, как, может быть, одно из самых ярких воспоминаний об отце.
Отец имел офицерскую выправку и хотел, чтобы и я не отставал. Часто он закладывал свою трость мне за спину - под локти. Отец заставлял и меня, и сестру утром делать зарядку. Он и маму пробовал вовлечь, но она не поддавалась. Отец старался закалять меня. Летом каждое утро мы шли на Даугаву плавать. Часов в семь - перед работой. Регулярно, каждое утро, и в дождь тоже. Весной начинали не очень рано, зато плавали до поздней осени, когда в воду уже никто не заходил. Я был бесконечно горд. Отец плавал, даже когда вода уже покрывалась тонкой корочкой льда. Я сидел на песчаном берегу, закутавшись в отцовскую меховую куртку, и смотрел, как он бежит в реку, ломая сантиметровый лед.
Когда река замерзала, отец каждое утро натирался во дворе снегом и начал приучать к этому и меня. Он говорил, что только благодаря такой закалке он остался жив, когда бежал из плена Махно. Сбежали двенадцать человек, но в живых осталось только двое - отец и еще один офицер. Остальные погибли в степи. Первое время я смотрел в окно и дрожал, глядя, как полуголый папа растирается снегом, но потом и мне это понравилось. На севере к этой процедуре лучше было не приступать - останешься без кожи. Шарф отец не носил. Зимой ходил с открытой грудью и меня к этому приучил. Не помню, чтобы отец хоть раз простудился. А оказавшись в Вятлаге, он уже 3 октября 1941 года умер от воспаления легких. Мой отец - и воспаление легких?
Но как бы я ни закалялся, как бы ни тренировался, нога становилась все короче. В 1939 году меня прооперировали. Эта операция, вне всякого сомнения, имела решающее значение в моей дальнейшей жизни и особенно в сибирской «одиссее». В Советском Союзе инвалиды в расчет не принимались, их как будто и не было. Во время и после войны - тем более. Слишком стало их много. В стране было полным-полно живших на подаяние нищих инвалидов, передвигавшихся на костылях или самодельных тележках, грудь которых украшали ордена и медали. Инвалидов даже прятали в старых монастырях, стоявших на озерных островах, в необжитых местах, чтобы они не портили репутацию больших городов. Не хватало еще изуродованных врагов народа! Но я после вовремя и удачно сделанной операции был здоров, полон сил и был готов «выполнить любое задание партии и правительства», в том числе по освоению полярных регионов.
Оперировал меня уже тогда широко известный ортопед Биезиньш, присутствовали также профессор Паул Страдыньш и врач Карлис Долиетис. Оперировали меня три таких знаменитости (по крайней мере, таковыми они впоследствии стали) благодаря нашему родству с Долиетисом, который, в свою оче-редь, был в родстве с Паулом Страдыньшем. Все трое дружили еще со студенческих времен.
Полгода провел я во 2-й городской больнице (впоследствии больнице им. П. Страдыня). Четыре месяца лежал только на спине, по грудь в гипсовом панцире. Ноги под прямым углом, одна нога в гипсе полностью, другая до колена. Было тяжко. Я не мог приподняться даже сидя. Попробуйте читать книгу, все время держа ее на вытянутых руках... Но прочел я в то время очень много. Делать было нечего, оставалось читать и слушать рассказы больных, очень интересные.
Целые полгода я жил среди взрослых мужчин, к тому же очень разных. Какие только люди не побывали за это время в отделении! Разных национальностей, с разным уровнем образования, интеллекта, интеллигентности. Насколько можно понять, никаких спецбольниц тогда не было, потому что в отделении рядом с рабочим лежал директор фабрики, высокий полицейский чин (помню полковника Лакстигалу, кавалера ордена Лачплесиса), директор какого-то департамента, чемпион Латвии по шахматам Апшениекс, чемпион по метанию молота, художники, актеры. Все здесь были равны, не было никаких привилегий. Кормили всех одинаково, к тому же хорошо. И сравнить нельзя с «рационом» и в советских больницах, и в нынешних. Уровень медицинского обслуживания, больничные условия, процесс лечения, по-моему, и сегодня еще далек от уровня так называемых улманисовских времен.
Еще два месяца я провел в больнице после того, как сняли гипс. Много времени проводил в перевязочной. Это было интересно. Каких только переломов я не повидал! Закрытые, открытые, но не помню ни одного случая, чтобы у кого-то не-правильно срослись кости, что в нынешние времена происходит частенько. Вот тогда во мне созрело желание стать хирургом. Не моряком и не летчиком, как в раннем детстве, а хирургом.
Случаи, подобные моему, в медицинской практике были редкостью, операция была уникальная. Часто меня возили в студенческую аудиторию и до, и после операции. Помню, как- то раз демонстрировали пациента, привезенного из еврейской больницы, у которого сломанная нога была вставлена в аппарат, подобный аппарату знаменитого Илизарова. Было это тогда, когда и Илизаров, и Калнберзс, наверное, были еще маленькими мальчиками. Позже, уже вернувшись из России, я встретил двоих, которым в русские времена была сделана подобная моей операция. Оба молодые люди, но инвалиды - сильно хромали. В юности я бегал по тундре как молодой олень. И не только в юности, но будучи уже в годах, да еще с тяжелым рюкзаком за плечами. Мне действительно очень повезло!
Пару раз в неделю наше отделение посещал профессор Страдынь. Его называли «летающим профессором». Профессор несся по коридорам так, что студенты еле поспевали за ним. Девочки, так те бегом. Полы его белого халата развевались, словно крылья.
В больнице много говорили о политике. Русские воевали с финнами. Все сочувствовали маленькой героической Финляндии. Эта война сильно подорвала репутацию России, и число симпатизировавших ей, даже среди той части населения Латвии, которая, наслушавшись пропагандистских передач русского радио, была на стороне Советской России, стремительно уменьшилось.
Польша была поделена. Часть польской армии перебежала в Латвию и здесь была интернирована. В Улброке был лагерь для польских солдат. Вначале офицеры жили вместе с солдата-ми, потом пришлось их разделить, так как офицеры били солдат. (О лагере я узнал от родственника - сына капитана Штейнберг- са, коменданта лагеря). Зима была очень холодная. Случалось, воробьи камнем падали на землю. В больнице стали появляться люди с отмороженными пальцами на руках и ногах, которые приходилось ампутировать. Видел я и тех, кто обморозил ноги в молодости, и сейчас, в старости, их приходилось ампутировать, так как начиналась гангрена. Об этом я вспомнил на севере. За ногами я очень следил. Но не всегда это было возможно.
В отделении царила дружеская атмосфера, хотя общество было пестрым. Уже тогда я начал понимать разницу между рабочими, крестьянами, интеллигенцией, ремесленниками, торговцами. Отношения отнюдь не были простыми. Но как бы то ни было, рабочие не пылали ненавистью и не собирались прикончить ни владельца своей фабрики, ни полицейских, офицеров, священников и т.д. Это утверждение пусть останется на совести коммунистических функционеров и идеологов, пришедших к власти.
Часто говорили о прошлом Латвии, об Освободительных боях. В нашем отделении лежали многие участники тех боев. Много говорили и спорили и о недавнем прошлом. О так называемых партийных временах, о Карле Улманисе и о 15 мая 1934 года. О партийных временах, о депутатах рассказывали множество анекдотов. Об Улманисе и других власть имущих тоже. Но никому и в голову не приходило, что следует опасаться рассказывать анекдоты или критиковать правительство. Помню анекдот: 15 мая на фасаде Центральной тюрьмы был вывешен транспарант: Едины со своим Вождем!
Лежали в отделении и люди других национальностей: евреи, русские, один эстонец, кавалер ордена Лачплесиса, который так смешно говорил полатышски, что мы частенько надрывались от смеха. Были и немцы. В то время немцы уезжали в Германию. У одного, фамилия его была Штраус, вся семья уезжала в Германию, а он оставался. Штраус сказал, что у него только одна родина и одно отечество - Латвия. Штраус работал на каком-то чугунолитейном заводе, и жидкий металл попал ему в сапог за голенище. Ногу поместили в клетку из железных прутьев, и вырезанную с разных частей его тела кожу приживляли на раны.
Отъезд немцев в народе не одобряли. Уезжающих многие считали предателями. По радио прозвучали слова президента: «Уезжайте и не возвращайтесь!». Никто тогда и не думал о том, что произойдет с президентом через полгода. И мы тогда, лежа в больнице, не могли себе представить, что очень скоро дружеская атмосфера, доброжелательность, царившая между нами, обитателями больницы, как и во всей нашей маленькой Латвии, сменятся ненавистью, взаимным недоверием и страхом.
Немцы вернулись. И латыши не испытывали к ним особой ненависти, а если и испытывали за причиненное зло, то его никак нельзя было сравнить с тем злом, которое принесли отравленные коммунистическими идеями латыши с востока. Возможно, не столько отравленные идеями, - кто им действительно верил! - сколько были развращены той системой, которая заставляла каждого указывать пальцем на другого, пока тот не сделал это первым.
Я вышел из больницы весной 1940 года. Летом в Екабпилс вошла русская армия. Как бы ни называть эту армию - красной или советской, это была русская армия. Армия России, которая пришла из России и говорила и пела по-русски. Это была та же русская армия, которая столетия назад - возглавляемая Иваном Грозным и не менее грозным Петром Первым - жгла наши хутора, убивала латышских мужчин и насиловала латышских женщин и девушек. Та самая русская армия, которая под командованием «гуманного, интеллигентного и несчастного» Николая Второго, чуть ли не канонизированного русской церковью, расстреливала латышей в 1905 году. Та самая русская армия, которую наши отцы били под Кромами и Перекопом. Били за Тирельские болота, за Пулеметную горку, за Остров смерти, за 1905 год, та самая русская армия, которую изгнали из Латвии в 1919 году.
И вот эта битая и изгнанная нашими отцами армия снова вошла в Латвию.
Как же это произошло? То, что и сегодня многие не хотят признать оккупацией. На словах вроде бы признают, а думают иначе.
Что это было, если не оккупация? Черное пятно в истории Латвии, страницы истории, заполненные противоречиями и пестрящие белыми пятнами. И такими они останутся, если каждый, кто может, каждый, кому суждено было быть очевидцем тех событий, не опишет увиденное и пережитое в те дни. Правдивой картина станет только в том случае, если будет опираться на воспоминания и свидетельства многих очевидцев, а не на домыслы или даже ложь зачастую тенденциозно настроенных лиц. К тому же следует учитывать, что ни одному документу сталинских времен нельзя доверять безоговорочно. Ни одному. И написанная на основе таких документов история - это фальсификация истории.
В Даугавпилсе состоялся Праздник песен. Утром неожиданно оттуда возвратилась мама. Ездила она туда как айзсардзе, санитаркой. Мама была взволнована и, плача, рассказывала, что в Даугавпилс вошла русская армия. Моя мама - русская - приход русской армии в Латвию восприняла с ужасом, как трагедию! Вероятно, за несколько прожитых в России при большевиках лет она немало повидала и пережила. В Даугавпилс мама уехала в форме айзсардзе, а вернулась в чужом пестром ситцевом платье. Заставила ее надеть платье жена друга отца, Гривского прокурора, потому что в форме ехать было опасно. Мама была активным членом организации айзсаргов. Будучи женой основателя Екабпилсского отделения айзсаргов, она считала своим долгом вступить в организацию.
В тот же самый день около полудня на рыночной площади появилась русская бронемашина. Прямо напротив нашего дома. Из нее долго никто не выходил. Башня с пулеметом крутилась во все стороны. Бронемашину обступила стайка любопытных мальчишек. Такого зверя они еще не видывали. На броне были видны вмятины, следы пуль. Откуда они? Получены в Финляндии или в нашей стране? Ни о каких боях с русскими не было слышно. О трагедии в Масленках мы еще ничего не знали. Появившийся из бронемашины субъект поговорил о чем-то с подошедшим полицейским. Бронемашина появилась как будто из какого-то иного мира - чуждая, лишняя на этой площади, куда до этого съезжались крестьяне на повозках или санях. Летом здесь часто останавливался цирк Петерсона или Балодиса.
Каждое появление цирка для нас, мальчишек, было долгожданным событием. Ночную тишину часто прерывало рычание львов и тигров, трубные звуки, издаваемые слонами. На ум приходили джунгли, Африка, Борнео. Окутывавший цирк звериный смрад, проникавший летними ночами и в наш дом, казался удивительным, головокружительным ароматом, ничуть не похожим на прозаический запах хлева, который вдыхали мы в наших деревнях. Иногда на краю площади стояла огромная деревянная бочка с нарисованной на ней смертью с косой на мотоцикле - «смертельный трюк» по вертикальной стене.
А сейчас на площади стояла зеленая бронемашина и подошедшая вслед за ней группа солдат. Солдаты были низкорослые, грязные, усталые и почти все косоглазые. Ни на завоевателей, ни на победителей они не были похожи. Появилось несколько офицеров. Тоже маленькие, помятые. В синих галифе с отвисшим задом, в странных брезентовых сапогах.
Это была странная оккупация. Казалось, вначале ее никто не принял всерьез. Словно бы все это на несколько дней, несколько недель. Все происходившее было каким-то нереальным, часто даже вызывало смех. Неужели действительно произошло что- то страшное? Только полгода назад русские оборудовали у нас какие-то базы где-то в Курземе, далеко от Екабпилса. И ведь ничего страшного не случилось. Что же произошло сейчас? Человек, которому мы все верили, сказал: «Я остаюсь на своем месте, вы оставайтесь на своих».
В истории, которую мы учили в школе, очень мало говорилось о боях с русскими. Был Остров смерти, Пулеметная горка, бои с Бермондтом, все с немцами. А девятнадцатый год? Даже Калпакс погиб от немецкой пули. А о борьбе с большевиками совсем чуть-чуть. Возможно, правительство больше ориентировалось на русских, чем на немцев? Возможно, это был обоснованный страх перед восточным соседом? Германия была далеко, за Литвой и Польшей, а русские - вот они, за Зилупе.
Сколько дней наша армия могла бы продержаться? А народ? Армия была бы уничтожена, но вошла бы в историю, овеянная таким же ореолом славы, как латышские стрелковые полки. Возможно, по радио тогда должны были прозвучать другие слова? Об этом мы думали и говорили все годы ссылки и не могли найти ответа. Чем оправдать такую нерешительность? Возможно, тем, что информация, которая поступала к Улманису, сколь бы подробной и объективной она ни была, не отражала и десятой доли того, что в действительности происходило в Советском Союзе, в каких масштабах уничтожался народ. Даже о концентрационных лагерях в Германии, хотя страна была густонаселенная и расстояния сравнительно небольшие, мир, да и сами немцы знали очень мало, а то, что происходило на просторах Советского Союза, в полярной тундре, в пустынях и в лесах, скрыть от всего мира не составляло труда. Но даже та информация, которая просачивалась через фильтр, создаваемый министерствами иностранных и внутренних дел, психически здоровому человеку казалась невероятной, то, что происходило в Советском Союзе, не вписывалось ни в какие рамки здравого смысла и логики. Карлис Улманис был человеком со здоровой психикой и логическим мышлением. И если что-то подобное происходило в России, то это происходило в России. Латвия более двадцати лет была независимым государством, признанным тем же Советским Союзом. К тому же каждый человек надеется на лучшее, и руководитель государства не исключение. Но нередко та или иная ошибка государственного деятеля оценивается как преступление. Была ли это именно такая ошибка?
Очень скоро наш дом оказался в окружении русской армии. Какая-то армейская часть разместилась в доме колбасного фабриканта Вилде и на фабрике рядом с нашим домом. Вилде репатриировался в Германию. Его первосортные колбасы знали не только в Екабпилсе. Старый Вилде был командиром добро-вольной пожарной команды. Когда звучала возвещающая о пожаре сирена, пожарные со всех концов города мчались в депо. Кто на велосипеде, кто бегом. Вилде и его ребята всегда были первыми - добежать от фабрики до депо дело минутное. Он и сам работал на своей фабрике и в депо бежал в деревянных башмаках, только фартук в пятнах крови развевался по ветру. Таким был один из самых богатых горожан Екабпилса, прибалтийский немец Оскар Вилде. И для него нашлось бы место в болотах Вятлага, если бы он вовремя не уехал в Германию.
На колбасной фабрике оборудовали армейский продуктовый склад. Привезли бочки с крупной сушеной воблой. У нас такой рыбы еще не видели.
Армия заняла и так называемый дом Лесберга, который находился между нашим домом и Даугавой. По поперечной улице (теперь улица Остас) мимо наших окон по нескольку раз в день шагали русские солдаты под песни и свист - «.. .когда нас в бой пошлет товарищ Сталин...».
Все это было противно и ведь не могло же долго продолжаться!
Через несколько дней после появления русских по улице Бривибас прошла демонстрация. С красными флагами, плаката-ми, с криками, размахивая руками, сжатыми в кулак. Последние пять лет мы уже такого не видели. Но вспомнились «партийные» времена, шагающие по улицам Екабпилса «социки», топот сапог по мостовой, красные флаги и страх, который они во мне вызывали. Словно бы уже тогда я чувствовал, какая угроза исходит от этих людей. В то время подобные демонстрации сопровождали полицейские. Шли рядом с колонной. Сейчас полицейских не было. Мы стояли у окна. Я, мама, позади отец. Отец положил руки нам на плечи, вздохнул и как бы про себя произнес: «Это конец». Очевидно, ему все было ясно. А мне ничего не было ясно. Кто эти люди в колонне, размахивающие кулаками и требующие свержения «клики» Улманиса, хлеба и работы?
Я могу рассказать только то, что происходило в Екабпилсе. Возможно, в Риге или Лиепае, где была развитая промышленность, где был так называемый пролетариат (вряд ли латышских рабочих можно назвать пролетариями), все было совсем иначе. В Екабпилсе промышленность представляли крахмальный завод, две печи для обжига извести и упомянутая колбасная фабрика. Поэтому так называемый рабочий класс представляли ремесленники и занятые на временных работах. Это и был «основной класс» Райниса? Крестьяне - настоящий основной класс латышского народа - еще и не догадывались, какая судьба ему уготована. Им и всему сельскому хозяйству Латвии. Латышские крестьяне, как и все общество, очень мало знали о судьбе крестьян России и других оккупированных стран, а если что-то и слышали, все же надеялись, что у нас такого произойти не может. Новое правительство в первые же дни заявило, что колхозов в Латвии не будет.
Надежды, надежды! Но на что надеялась шагавшая под красными флагами и
лозунгами, направленными против Латвийского государства, толпа? На лучшую,
легкую жизнь при советской власти? На многообещающее, но мнимое равенство?
Советская пропаганда в последние годы постаралась, как следует.
Демонстрация была не очень многочисленной, но шумной и грозной, для такого
маленького города достаточно внушительной и «многообещающей». Но самое
характерное - в демонстрации участвовали в основном люди других национальностей
(которых мы такими до этого даже не считали).
Екабпилс издавна был городом с очень пестрым населением. Причины тому разные. Когда в России преследовали старообрядцев, многие из них нашли приют в Латвии. Бывших каторжников и других ненадежных лиц в царские времена ссылали не только в Сибирь, но и на другие окраины империи, в том числе в Латвию. Так возник на окраине города поселок Брод. Белые офицеры после гражданской войны в России находили прибежище не только в Париже, Берлине или Риге, кое- кто осел и в Екабпилсе. К тому же многие латышские стрелки, возвратившиеся с войны, привели с собой русскую девушку, как мой отец.
В Екабпилсе жило очень много евреев. Вся торговля была в их руках. Еврейская диаспора придавала городу специфический, своеобразный колорит, и Екабпилс многое утратил, оставшись без этого народа. И не только Екабпилс.
Обитало в городе и очень много цыган. Была целая улица, где жили только цыгане. Старый цыган Чупурилла часто сиживал у нас на кухне и беседовал (как говорила мама - «флиртовал») с бабушкой. Вероятно, они были друзья детства. У отца таких друзей и одноклассников было полгорода, причем разных национальностей и из разных социальных слоев. В таком маленьком городке все друг друга знали. Все росли вместе - с самого детства.
В Екабпилсе была одна лютеранская, одна католическая и две православные церкви (одна из них, как я недавно узнал, была униатской). Было три синагоги, баптистская церковь и старообрядческая, где вместо колокола висел кусок рельса.
В городе были латышская, русская и еврейская основные школы. (В описываемое мною время слово «еврей» не только не употреблялось, его просто не знали. И ничего постыдного или унизительного в слове «жид» в то время никто, даже сами евреи, не видели. Только в России оно носило уничижительный характер. Я и сегодня не понимаю и не принимаю истерического отношения евреев к этому слову.)
В гимназии и коммерческой школе обучение велось только на латышском языке, но русская и еврейская школы давали вполне достаточные знания латышского языка, и многие, окончив эти школы, продолжали образование в гимназии и коммерческой школе на латышском языке. И русские, и евреи учились и в латышской основной школе.
Могу лия сегодня, «положа руку на сердце», утверждать, что все было гладко и безупречно в межнациональных отношениях в городке моего детства? Вероятно, все же нет. Слишком мал я тогда был, да и все происходило так давно. Возможно, я не все замечал, не все понимал, возможно, многое выветрилось из памяти. Но вряд ли родители отправляли бы своих детей в латышские школы, если бы там были замечены проявления дискриминации или антисемитизма. На мой взгляд, отношение латышей к евреям лучше и вернее всего изобразил Блауманис в своих пьесах. Здесь и юмор, и легкая ирония, но и уважение, и сочувствие веками унижаемому и несправедливо преследуемому народу. Унижаемому, презираемому, как и латышские крестьяне. Во взаимоотношениях между латышами и евреями не было ни малейшей ненависти. Ненависть появилась вместе с приходом советской власти, коммунистической системы. Все послереволюционные годы система опиралась на зло, на взаимную ненависть между народами. Руководствуясь основным древнейшим принципом великих народов и государств: «Разделяй и властвуй!»
Национальные проблемы в мире существовали всегда, но в годы Первой Латвийской Республики они были минимальными. Происходила постепенная, незаметная интеграция людей других национальностей в латышскую среду. Это был естественный, безболезненный процесс. Что бы из этого получилось, мы можем только гадать. Все это из ряда «если бы да кабы...»
По улице Бривибас в Екабпилсе шагали демонстранты, требуя свержения «клики» Улманиса, равноправия, работы и хлеба, смерти националистам и буржуям. К последним, похоже, принадлежал и я. Среди участников демонстрации больше всего было иноязычных и латышских «социков». Знать о них я почти ничего не знал, но слышал разговоры родителей. Точно так же было и в других городах. Об этом мы не раз говорили в Сибири. Но в Сибирь попали и социал-демократы, как бы ни хотели и не старались они сотрудничать с новой властью. Позже им пришлось покаяться и признать свои ошибки. Арестованный в 1941 году Артур Страдыньш в своем поразительном вятлагском дневнике пишет: «Социал-демократ В. спокойно разгуливает. Очевидно, размышляет над своим прошлым, когда со своими сторонниками шагал по улицам Риги и прославлял советский строй, как хорошо, мол, при нем живется рабочим. И за это теперь приходится сидеть в лагере».
Родители говорили, что в демонстрации участвуют неиз-вестно откуда взявшиеся, совершенно чужие люди, никто их здесь никогда не видел, а жителей городка мои родители знали наперечет. Я, правда, не думаю, чтобы в провинциальный горо-док были засланы люди для придания демонстрации эффекта массовости. Но что в Ригу были присланы комсомольцы из Ленинграда - это факт. Это я слышал лет двенадцать спустя от самого участника акции.
Большинство русских и евреев с первых же дней приняли новую, чужую власть с восторгом. Это вызвало возмущение среди латышей и было расценено как предательство. Латыши этого не заслужили. Русских еще как-то можно было понять: вошла ведь русская армия. Но евреи?
Никогда латыши ничего плохого евреям не делали. В царские времена, когда в России свирепствовали черносотенцы, когда под лозунгом «Бей жидов, спасай Россию!» в России, на Украине и в Белоруссии начались еврейские погромы, на ны-нешней территории Латвии ничего подобного не происходило. Но все погромы царского времени бледнеют по сравнению с тем, что вынес еврейский народ в сталинские времена. И я был тому свидетелем. Среди жертв, выживших во времена «охоты на ведьм» в тридцатые годы, с которыми мне довелось встретиться в тюрьмах и ссылках, кажется, каждый второй был еврей. И эту враждебную им власть сами евреи приняли как освободителя. Освободителя от чего? Разве же они не знали, что происходит в России? Маловероятно, если принять во внимание уровень взаимной информированности, бытовавший в этом народе.
Что было, то было. Как гласит русская пословица: «Кто старое помянет, тому глаз вон!» Но добавляют и так: «А кто забудет, тому оба!» И, мне кажется, евреи, скорее, придерживаются именно последнего...
Я надеюсь, что мои знакомые и друзья евреи и в Латвии, и в других уголках мира, которые, возможно, когда-нибудь прочтут эти строки, поймут, что я хочу только восстановить справедливость, чтобы все происходившее предстало таким, каким было в действительности. Говорить об особой роли латышей в преступлениях против евреев несправедливо и безосновательно. Безусловно, проще обвинить маленький на-род, каким являются латыши, чем большой, например, русских. Ни один большой народ никогда и ни в чем не бывает виноват, а маленькие народы можно обвинить во всех грехах. Неужели же латышам вечно придется посыпать голову пеплом за то, что для уничтожения евреев немцы использовали несколько сот психически нездоровых людей, подобных Арайсу, и таких, чья психика надломилась при виде расправы чекистов, в том числе и евреев, над их близкими? Такие случаи были. Но разве знают сегодня евреи, скольким их соотечественникам дала приют Латвия, когда в Германии началось уничтожение евреев?
Об участии латышей в геноциде евреев я судить вообще-то не могу, поскольку не был свидетелем. Я верю только тому, что видел своими глазами и испытал на своей шкуре. У меня на столе лежат копии «дел»: моего отца, моей матери и моего, и я ознакомился с десятками подобных, сфабрикованных чека «дел», но мне и в голову не приходит гоняться по всему свету за каким-то стариком, который уже три дня как у смерти в долгу. Когда, наконец, закончится эта игра «в одни ворота»? Я не знаю и не хочу знать, сколько евреев после прихода русских работало в чека, не знаю и не хочу знать, сколько латышей работало в гестапо в немецкое время. Не знаю, кто кого больше уничтожил, кто кому вырывал ногти, не знаю и знать не хочу. И никто никогда этого не скажет. Пусть Господь Бог сосчитает и все разложит по полочкам. Одно - поиски истины и совсем другое - жажда мести.
Но не больше ли всех пострадали сами латыши от собра-тьев по крови? И разве не то же происходит у всех народов? Ну, не у всех. В этом отношении можно только позавидовать евреям - за их солидарность, взаимопомощь. Возможно, не столько позавидовать, сколько поздравить, если только взаимная солидарность не достигнута за счет другого народа. Но у каждого своя правда. Оглядываясь сегодня на те времена и события, многое в поступках людей тех лет кажется если не оправданным, то понятным.
На своем длинном векуя повидал немало зла, и все-таки остался при убеждении, что по-настоящему злых людей очень мало. А вот дураков хватает. И во всем происходившем когда-то виновата прежде всего глупость, наивность, ну и страх. Предательство, доносительство, которые многих тогда довели до Сибири и до смерти, были вызваны не столько злобой и ненавистью, сколько глупостью, незнанием и страхом.
Когда читаешь документы тех лет, уголовные дела репрессированных, моего отца, мое, не знаешь, плакать, ужасаться или смеяться. Такая из них торчит глупость! В то время во всем происходившем было столько бессмыслицы, непостижимого для здравого ума, что было бы смешно, если бы не было так страшно. Или наоборот...
Отстраненным взглядом, без эмоций вглядываясь в про-шлое, многое понимаешь и даже оправдываешь. Людям трудно было ориентироваться в столь тяжкое время. Часть русских и поляков надеялась, что им ничто не угрожает, а евреи из двух зол выбрали меньшее - коммунистов, а не нацистов. А для латышей, по крайней мере, для большинства, ничего страшнее русских не было. Неважно, под какими знаменами и лозунгами они бы сюда ни явились. Это стало ясно в первые же дни оккупации. Дальнейшие события показали - то, что сделали немцы за недолгое время оккупации, несравнимо с тем, что сделали русские и их система за последующие пятьдесят лет.
В Екабпилсе, как и по всей Латвии, часто проходили митинги. Крик, рев, ругань. Крикунов, правда, было не очень много. Многие присоединялись к толпе из любопытства. На одном из митингов бывший айзсарг, забравшись на трибуну, топтал нога-ми свою форменную фуражку и с пеной на губах ругал прежнюю Латвию, Улманиса и айзсаргов, куда его заманили хитростью. Таких хамелеонов тогда было достаточно, они-то и были самым большим злом: на таких опиралась новая власть. Такие проникали в учреждения новой власти, такие были и в новом, и в последующих правительствах Латвийской ССР.
Признавая все плюсы так называемых улманисовских времен, не следует умалчивать и минусы. Организация айзсаргов была одним из оплотов власти Улманиса, и ею воспользовались 15 мая 1934 года. Во времена Улманиса возрос авторитет организации и число ее членов. Но... нередко количественный рост происходил за счет качества. Особенно в предвоенные годы, когда в организации произошли перемены, вызвавшие у многих старых ее членов недовольство и даже возмущение. Не раз слышал я это во время разговоров отца со своими друзьями и знакомыми. Говорили об этом и в Сибири, так как многие высланные женщины были членами организации айзсаргов со дня ее основания. В айзсарги стали брать нежелательных лиц, нередко даже звездочки присваивали «по дружбе», «по родству».
Во время создания организации айзсаргов и в первые годы ее существования командирами айзсаргов были бывшие офицеры и инструкторы, все они воевали. И на Первой мировой, и в Освободительных боях, и их недовольство и непонимание можно объяснить. Время и события показали, что опасения старых айзсаргов были не напрасными. И тот, кто топтал фуражку, был из новоиспеченных командиров айзсаргов. Такие и в немецкое время могли дискредитировать мундир айзсарга. Однако обвинять организацию в каких-то злодеяниях при немцах было демагогией и фальсификацией истории. Организация была ликвидирована сразу же после прихода русских, и немцы ее не восстановили. Только после разгрома под Сталинградом она была как бы легализована, но к тому времени все злодеяния немцев в оккупированной Латвии были уже совершены.
Заканчивались митинги демонстрацией кинофильмов «Цирк», «Волга-Волга», «Чапаев», кинокартин о войне, о непобедимой красной армии, которые демонстрировались на установленном тут же большом экране. Происходила масштабная милитаризация народного сознания, «оболванивание». Нам, мальчишкам, такие фильмы нравились. Раньше картин о войне было мало, а если и показывали, детям редко разрешали их смотреть. Происходили на площади и концерты. Две автомашины со спущенными бортами становились рядом, и сцена готова. Отец, бывший офицер царской армии, возмущался, видя, как русские офицеры пляшут «вприсядку» перед толпой зрителей. Все происходившее в то время отличалось низким культурным уровнем. Вскоре появились и жены русских офицеров - «командирши». Тут мы просто диву давались!
Жизнь в Екабпилсе протекала спокойно. Сколько помнится, зарплату всем прибавили. В магазинах было полно всего, как и раньше. В водочном магазине появились неизвестные дотоле напитки. Для некоторых это был своего рода прогресс.
Дома отец часто писал автобиографию и заполнял какие-то анкеты. Говорили, что многим приходится это делать. Тогда-то я и узнал, что отец воевал и в красной армии где-то на юге России, воевал в Крыму, и попал в плен к Махно. Он много рассказывал о своей военной жизни. Он и раньше рассказывал об этом, но мне уже исполнилось четырнадцать, и жизнь я начал воспринимать серьезнее. Все, что еще недавно было прошлым, историей, что происходило до меня и без меня, сейчас происходило на моих глазах.
Незадолго до вторжения русских я прочитал «Осененные вечностью» Александра Чака. Эта книга для нас, мальчишек, была главной книгой. Я прочел почти все романы Александра Грина. Особенно большое впечатление оставила на меня книга «Путь страданий», только автора не помню. Книга о судьбах латышских стрелков. С другом Улдисом Мусиньшем начали писать роман о стрелках. Отец Улдиса тоже был из старых латышских стрелков, кавалер ордена Лачплесиса. (Непонятно почему они называли себя старыми латышскими стрелками, хотя молодых стрелков-то не было.) Безусловно, ничего путного мы в таком возрасте написать не могли, но сама идея заставила собирать материалы и много читать. Это сильно расширило наш кругозор.
Улдис вступил в легион и пропал без вести.
Жизнь текла относительно спокойно, и все же что-то происходило и многое менялось. Национализировали дома. Национализировали и наш дом, который в 19-м столетии построил мой дед. Во время национализации выселяли и насильно, так, семью еврея Ландмана выставили из собственного дома, потому что квартира понадобилась начальнику гарнизона русской армии. Квартира, пожалуй, была самая лучшая в городе - с ванной комнатой и сливным клозетом. Было даже бидэ. Ландман несколько месяцев ютился у своих родственников - 14 июня 1941 года их вместе с нами выслали в Сибирь.
Развился синдром страха. Воздух был словно насыщен страхом, хотя ничего особенного еще не случилось. Страх опережал события. Люди стали опасаться друг друга. И вскоре оказалось, что страх был не напрасным. Стали исчезать люди. Арестовали владельца оружейной лавки Приедитиса, какого-то шофера, еще кого-то. Поползли слухи о зверствах НКВД, о том, что срывают ногти и т.п. Вспомнилась фотография из «Черной книги» - о правительстве Стучки. («Черная книга» вышла в начале тридцатых годов. В ней были собраны документы и фото-графии о том кратком периоде, когда власть в Латвии захва-тили большевики.) Тогда это казалось далеким и нереальным. Стучка за месяцы своего правления успел убить всего каких-то восемь тысяч человек. У нас же все было впереди. Все только начиналось.
Осенью, как обычно, в школах приступили к занятиям. Родители наказывали детям не распускать язык в школе. Была тогда даже пословица: «Что дети в школе щебечут, то родители дома поют». Может быть, это была выдумка чека, один из основных мотивов ее деятельности. Но мы ни о чем особенно не задумывались. Почти все мы были дети узнавших войну родителей, воспитывались в национально-патриотическом духе, и ненависть к оккупантам скрыть нам было трудно.
Во всех классах на вентиляционных люках были решетки. Кому-то пришло в голову, что за решетками спрятаны подслушивающие устройства. Однажды я, один из самых маленьких в классе, встал на плечи высокому, плотному Лео Лапиньшу и выломал решетку. К нашему разочарованию, за решеткой ничего не оказалось. Только толстый слой пыли и паутина.
Летом приход русских еще не воспринимался всерьез, как бы нечто нереальное, временное, но осенью и зимой стало ясно, что мы оказались под игом чуждой, враждебной нам власти. И нам, школьникам, все стало ясно. Мы не могли оставаться равнодушными, видя, как обливают грязью все, что для нас было святым. Мы не могли смириться с тем, что хулят Александра Гринса и других наших писателей, а неизвестно откуда всплыли всякие ниедрес, рокпелнисы, рудзитисы. Тогда мы и подумать не могли, что многие поколения вырастут, не зная Гринса, Вирзы,
Плудониса, Эглитиса, Лесиньша, что молодежи будут доступны только некоторые произведения Блауманиса, Яунсудрабиньша, что будут забыты Яншевскис и Рутку Тэвс и даже «Осененные вечностью» Александра Чака. Нам и во сне не снилось, что многие поколения вырастут, не зная не только латышской классической литературы, но и истории Латвии.
Латышский язык и литературу преподавала нам неизвестно откуда появившаяся в Екабпилсе учительница Ошкалне. Она была коммунисткой, но отзывчивая, спокойная и вежливая. Ее муж Оттомар Ошкалне был каким-то партийным функционером и преподавал в средней школе обществоведение. Однажды на свой юбилей Ошкалны пригласили нескольких учителей, среди них и двоюродную сестру моего отца Лину Бруновску. Тетя Лина потом рассказывала, как их поразили роскошь и богатство Ошкалнов. Столько столового серебра, фарфора и хрусталя она не видела даже в юности у своего хозяина русского генерала в Невеле, в Псковской области, где служила гувернанткой. Откуда у Ошкалнов такое богатство? Возможно, Кремль хорошо платил за какие-то «особые услуги» еще во времена свободной Латвии? Возможно, он успел уже как следует награбить, участвуя в первых арестах? После войны, бывая в Екабпилсе, я достаточно наслушался о «героических подвигах» Ошкална в окрестностях Екабпилса, о его участии в арестах, акциях по высылке, о проведении террористических акций против мирного населения во время войны, об «охоте» на крестьянских поросят.
Сразу же после появления русских были ликвидированы все общественные организации - айзеарги, Общество образования, Красный Крест. Уволили многих полицейских. Оставшихся назвали милиционерами. В помощь милиции создали вспомогательную службу. Они носили на рукаве красную повязку с белыми буквами „РО". Народ толковал аббревиатуру на свой лад. Позже организовали Рабочую гвардию. Выдали винтовки, синие мундиры. В гвардию в основном вступали русские и евреи, но истины ради следует сказать, что во всех акциях участвовали низшие слои населения, люмпены, одурманенные лозунгами «социков» элементы. Ни русская, ни еврейская интеллигенция и зажиточная часть в этих акциях не участвовали. Поэтому многим пришлось проделать далекий путь в Сибирь вместе с латышами. Только в Вятлаге каждый восьмой погибший был еврей. Пропорционально численности населения в 1941 году евреев было выслано больше, чем латышей. Но неоспорим и тот факт, что с 23 июля 1941 по 4 сентября 1944 года диктатором «империи» Вятлаг был комендант еврей Ной Самойлович Левинсон. Именно в то время умерли от голода и холода и были расстреляны граждане Латвии, в том числе евреи. Об ужасах Вятлага мне рассказывал еще в 1989 году еврей из Даугавпилса Липман Слуцкин. Назвал он и имя еврея, который был виновен в депортации многих даугавпилсских евреев.
Еще до постыдных принудительных выборов в Сейм, по дороге из Риги в Даугавпилс, к нам заехал сын отцовского друга Лапиньша Паулис, который служил в Даугавпилсе на бронепоезде. Паулис вез в Даугавпилс списки кандидатов в депутаты. Это была альтернатива официальному, составленному новой властью списку. Помню, что одним из первых в нем стояло имя Атиса Кениньша. Список распространили по всей Латвии, но усилия оказались напрасными. Чека не дремало. Латвию присоединили к России, как говорится, «по просьбе трудящихся». Латвия утратила независимость и de jure.
Арестовали ученика выпускного класса гимназии Виктора Тарзиерса и учителя Пуполса. Основную школу еще не объединили со средней школой, и о подпольном движении в последних классах средней школы мы ничего не знали. Но и мои друзья, которые учились в младших классах той же школы, об этом не знали. О подпольной организации я узнал только в Сибири от Илмара Узанса, который тоже был ее членом и распространял прокламации вместе с Тарзиерсом.
Сестра моя училась в школе сестер милосердия в Риге. Приехав на несколько дней, она рассказала об арестах в Риге. Арестовали многих девочек с ее курса. И ее бывшую одноклассницу и подругу еще по Екабпилсу Айну Балтыню. Теперь известно, что Айна была участницей группы сопротивления К01.А («Боевая организация освобождения Латвии»),
В народе росли ненависть и презрение к новой власти. Сестра привезла массу анекдотов и песен, которые высмеивали новоиспеченных политиков, предателей народа - Кирхенштейна, Вилиса Лациса, Калнберзиня, Спуре, Нейланда и др. По всей Латвии начались антигосударственные волнения. Но власть была сильна, хорошо информирована, безжалостна и имела за плечами опыт двадцатипятилетнего террора. Только за несколько лет до этого в России произошли столь масштабные аресты, каких мир еще не знал. По сравнению с ними события в Латвии были сущий пустяк.
Что-то и мы, мелкота, пытались делать. Спонтанно, не-организованно, никем не руководимые. Однажды водяными акварельными красками писали какие-то прокламации. Кажется, на 18 ноября. Учили приемы джиу-джитсу по какой-то затрепанной брошюрке. Стучали ребром ладони по столу, чтобы рука стала твердая, как дерево. Особых результатов не добились. Больше всего нам нравился прием, когда во время падения бросаешь противника через голову. Применять его, правда, не пришлось ни разу, только умение правильно падать мне не однажды в жизни пригодилось, особенно в туристических походах.
Наш протест выражался еще и в совместных походах всем классом в церковь. Произошло это, кажется, в какой-то из наших прежних государственных праздников - 18 ноября или 15 мая, а может быть, на Пасху. Заводилой была Рута Атваре и другие девочки. Наш класс был не единственным. В то время это было не так просто, если вспомнить выражение о «щебетанье и песнях». В школах уроки вероисповедания были запрещены. Велась мощнейшая антирелигиозная пропаганда. Неизвестно откуда появившиеся молодые писатели и газетчики из шкуры вон лезли, пытаясь очернить церковь, священников и религию. Особенно выделялся писатель Ниедре.
Дополнением к нашей «контрреволюционной» деятельности стало акционерное общество «Красный сердцеед», которое мы учредили, издеваясь над словом «красный», бывшим тогда в ходу как символ коммунистической власти. Нам было 13-14 лет, и мы уже понимали разницу между нами и девочками. Все школьные годы мы учились отдельно, только в советское время стали учиться вместе (это была, наверное, единственная положительная перемена в сфере образования).
В школе организовали пионерский кружок. Из моего класса в пионеры вступили двое. Ликвидировали как националистические организации скаутов, мазпулков, молодежное отделение Красного Креста. Вялая пионерская организация не шла с ними ни в какое сравнение. Я участвовал в кружке молодежного отделения Красного Креста и в организации мазпулков. Отцу, как бывшему стрелку, выделили на окраине города участок земли, и мне нравилось работать на, как мы его окрестили, «пятачке», поэтому я вступил в отряд мазпулков, которых тогда называли «огурцами». Летом мы жили в лагере, ходили в лодочные походы по Даугаве, останавливались на каком-нибудь острове, жили в палатках, вечером разводили костер, пели, танцевали, затевали игры. Иногда у нас гостили такие же ребята из литов-ской и эстонской организаций. Приветствуя их, мы исполняли гимн их страны на их языке.
Посреди лагеря на высокой мачте развевался флаг, возле которого на ночь выставляли охрану. Смена караула происходили каждый час или два. Еду готовили наши девочки в большом армейском котле на колесах. Ходили в походы, учились оказывать первую помощь, учились стрелять. Многое из осво-енного в лагере мне позже пригодилось в Сибири. Ничто, чему я в жизни научился, впоследствии не оказалось лишним. Иногда мы помогали кому-нибудь из крестьян в полевых работах. Да, нас воспитывали в национально-патриотическом духе, но не посредством политических и патриотических речей, а рас-сказами о нашей истории. А за свою историю нам нечего было стыдиться. Мы должны были быть националистами. Маленький народ может выжить, только если он воспитан в национальном духе. Национализм малых народов не может нанести вред ни одному другому народу. От привитого нам с детства чувства национального достоинства и любви к родине нас надеялись «излечить» Сибирью...
...куда я снова возвращаюсь после краткого пребывания в прошлом. Которое не делает чести никому. Ни русским, ни немцам, ни евреям, ни латышам. Мы, латыши, были хозяевами в Латвии, и мы отвечали за все. И за трусость, и за политическую близорукость, и за предательство. Но только за то, что происходило в свободной Латвийской республике. Мы не можем брать на себя ответственность за то, что происходило в годы оккупации. Ни как государство, ни как народ. И мы ни перед кем не должны каяться. Все великие страны и народы должны просить прощения у нас за пятьдесят лет оккупации.
Как-то ранней весной, кажется, в 1946 году меня направили на так называемые Чумные озера. Они находились напротив Сопочки, только на другом берегу, километрах в тридцати пяти от него. Тут был настоящий интернационал. Латыши, немцы, финны, русские и «друзья степей» (как назвал их Пушкин) калмыки. Неизвестно, за что были изгнаны из своих родных степей на север Сибири калмыки. И калмыцкая республика или область где-то в южных степях была ликвидирована. В начале войны калмыков, как и немцев, призывали в армию. Были даже специальные калмыцкие конные отряды. А потом кому-то видно стукнуло в голову, что калмыки потенциальные «предатели родины», как и все население завоеванных русскими земель, и они были репрессированы. Большую часть интеллигенции уничтожили. Много калмыков попало в район Игарки, многие живут там и по сей день.
Не знаю, найдется ли еще такой честный народ, как калмыки. Детям с самых малых лет внушается понятие, что чужое - табу, даже если ты голодаешь. Слабее всего, мне кажется, это понятие, воспитано в русских. Я долгие годы прожил в России, сталкивался с представителями разных народов, да и сам я наполовину русский. Совершенно не стыжусь своих русских кровей, но и гордиться этим у меня нет ни малейшей причины. Возможно, многие отрицательные качества - лень, поиски виноватых среди других народов, грубость и то же воровство - результат в основном коммунистического воспитания. Возможно, при царях этот народ был совсем другим? Но сегодня, в 1998 году, перечитывая эти строки и дополняя свой рассказ, я с глубочайшим огорчением констатирую, что кое в чем мы обогнали своего «старшего брата». И сомневаюсь, что это быстро исчезнет. Слишком долго народ бичевали, обманывали и обкрадывали, и он утратил многие человеческие качества. А кто виноват? Какие-то абстрактные силы, злые гении, системы, идеологии? Инопланетяне? Виноватых нет. Просто - такие были времена.
На Чумных озерах мы жили и спали у костров, укрываясь за грудами еловых лап, пока не поставили избу. Срубили ее за один присест, за пару недель. Мужчин было много, все опытные. Зима еще не кончилась, но дни стали длиннее, и работали мы почти без перерыва. Изготовили и лодки. Чтобы вши не заели окончательно, топили баню. Натаскали груду камней, нагрели их на костре, на вбитые в землю колья натянули брезентовый «чан» - большой резервуар для засолки рыбы, вот тебе и баня. Подлезешь под брезент, поддашь пару - резервуар надувается, как готовый к полету воздушный шар. Парились кедровыми и еловыми вениками! Сказка!
Чумные озера, как и Остяцкое, - это целая система озер. Меня назначили «командиром» на одно из самых дальних в системе- на Тройку. Прикомандировали ко мне двух девушек - поволжскую немку и ленинградскую эстонку и молодого калмыка Никиту Бадмаева. Показали направление - на восток: «Иди по озерам. Перейдешь четвертое озеро, еще часок по тайге, тут и будет твоя Тройка. Стоит там какая-то старая изба». С собой мы захватили пешню и сети, чтобы сразу же начать ловить. Тройку нашли, а вот изба развалилась.
Я отправил девушек обратно за подмогой - была середина мая, и до начала весеннего лова надо было успеть обустроиться под крышей. На следующий день мне в помощь прислали уже упомянутого Семена Меджидова и старого пермяка Адрияна Баяндина. Рубить избу из росших вокруг деревьев было довольно сложно. Хорошие, прямые деревья росли только по берегам Енисея. В окрестностях Бедового тоже были подходящие деревья. А Тройка далеко от Енисея - здесь уже настоящая лесотундра, деревья уродливые, кривые, внутри гнилые. Однако избу мы все же поставили вовремя. А за это время наловили уйму щук. На крючок в лунку. Лед толщиной более полуметра, но лунок много не потребовалось. Каждый вырубил для себя, и только успевали таскать. Попадались щуки весом двенадцать-пятнадцать килограммов. И особой насадки не требовалось. Цепляли на крючок куски старой оленьей шкуры. Пару мешков рыбы удалось переправить маме в Плахино. Она работала санитаркой в медпункте. В ту весну мы уже не голодали, как до этого на Щучьем.
Сумасшедший улов вселил надежду, что рыбы здесь будет как сельдей в бочке. Никто на озере не промышлял с царских времен. С тех пор, как здесь свирепствовала чума. Но мы про-считались. Только и было радости, что весной, когда в полынью возле устья речки едва можно было забросить половину невода. Уловы были порядочные, но большая часть рыбы протухла, так как не хватало соли, а когда соль завезли на оленях, рыбы уже не было.
Озеро Тройка состояло из трех озер. Два соединялись протокой, третье отделяла узкая полоска земли. Озера были небогаты рыбой, но красоты неописуемой. Пожалуй, красивее мне не случалось видеть. Особенно дальняя, южная оконечность его, которая была окаймлена горами, поросшими вековыми лиственницами. Болотистая лесотундра здесь сменялась лесистой возвышенностью. Вода в озере прозрачная, холодная, чувствовалось, что здесь очень глубоко. Возможно, рыба в озере водилась, но поймать ее стоило большого труда. Забросить невод можно было только в одном месте, около протоки, остальные берега для ловли не годились. Два других озера были мельче, в них было полно топляков, о которые рвались сети, и мы даже потеряли часть полотна.
На Тройке, как и на других озерах, было полно уток, только подстрелить не из чего было. Ружье или малокалиберку мне давали лишь на зимний сезон, весной ее надлежало сдать. Тем не менее, уток мы ели все время, не ленись только ощипать. Птицы запутывались в сети, и достать их оттуда было чертовски трудно. Но если попадалась гагара, то ничего другого не оставалось, как перерезать смотанный в жгут кусок сетки. В Латвии эти птицы встречаются редко. Гагара может только летать и плавать. По земле ходить не может, потому что лапы, расположенные сзади туловища, годятся только для плаванья и ныряния. Под водой гагара чувствует себя, как рыба, проплывая большие расстояния. Крылья у нее узкие, и чтобы взлететь, она должна разбежаться по воде, не в пример обычной утке, которая поднимается в воздух с места, если не откормилась до такой степени, что вообще не в силах летать. Гагара - птица красивая. Грудь и брюшко у нее белые, спина и крылья иссиня- черные, серая шейка с голубовато-фиолетовыми переливами. Попадались экземпляры величиной с небольшого гуся. Перья выщипать у нее невозможно, толстую, как у зверя, кожу приходилось сдирать. Подстрелить гагару можно только выстрелом в шею или в голову. Из кожи одной птицы получался прочнейший мокасин. Гагара очень похожа на пингвина.
На Тройку приемщиком рыбы прислали моего бывшего бригадира Кошелева. Но это уже не был бравый бригадир со Щучьего, сердцеед, он напоминал футбольный мяч, из которого выпустили воздух. ВВ гонке за очередной любовью он обморозил оставшиеся пальцы на ногах и передвигался с трудом, но не сдавался. Чем вызывал уважение. В помощь Кошелеву прислали и госпожу Кокс-Малендер, о которой я упоминал, когда рассказывал об Агапитово. Она в то время еще не выкопала труп своего сына, только рассказала мне о своем замысле. Я не поверил, что она сумет это сделать.
Мы «прочесывали» воды Тройки все лето. Только время убили, ничего не заработав. И в любви мне не везло. Обе девушки оказались глупы, как козы, и меня преследовала мысль - если я с кем-нибудь из них... мне обязательно придется жениться. И жить с глупой женой, когда и сам я глуп, как валенок, и еще, не дай Бог, завести детей, когда неизвестно, что со мной случится завтра. Но истинной причиной были, конечно, не мои рассуждения и домыслы. Просто не настало еще мое время терять голову.
Говорили, что на северо-восток от Тройки лежат богатые рыбой озера. Мы с Адрияном Баяндиным решили их разыскать. Колхозное руководство благословило нас. Адриян, пермяк по национальности, был мужик хороший. Есть такая народность, один из народов финно-угорской группы, живущий у южного подножия Уральских гор. На севере пермяков было много. Все они были работящие, мастеровые и вообще порядочные, сердечные люди. Может быть, именно поэтому во время коллективизации и было выслано их на Север так много. Адриян охотился с детства, ходил и на медведя в своих родных пермских лесах, но принадлежал к тем, кого принято считать неудачниками. Еще он болел эпилепсией. Однако отличался жизнерадостностью, остроумием, здоровым чувством юмора, он так и сыпал пословицами и поговорками, смешными и сочными выражениями, которыми богат русский язык. Пользуясь терминологией новейших времен, Адрияна, судя по его высказываниям и мыслям, можно было причислить к диссидентам. У него было двенадцать детей - одиннадцать девочек и только один мальчик, Василий, тот самый, который в первую нашу зиму пребывания в Сопочке защищал меня и Янку от нападок мальчишек и кое-чему нас научил.
Была поздняя осень, когда мы с Адрияном отправились искать таинственные, сулящие хорошие уловы озера. Они должны были находиться где-то у подножия Хантайских гор. У нас - ни карты, ни компаса. Эти предметы считались атрибутами шпионажа и обычным смертным были недоступны. Это уже сейчас на карте отыскал я тот наш маршрут, да и другие свои охотничьи тропы. Еды с собой у нас было дней на десять. Было и охотничье ружье. С нами увязался Пират. Пес менял хозяев в зависимости от настроения - с кем в данный момент было интересней. Некоторое время он жил на Бедовом, и Кошелев считал его своей собакой, потом болтался в Плахино, исчезая на неделю-другую. Пожил и на Чумных озерах и в конце концов решил отправиться в путешествие со мной. Возможно, и его влекли неизведанные, нехоженые тропы?
Это путешествие запомнилось мне особенно - приключениями и находками. Началось с того, что уже в самом начале, когда мы высадились на каменистом восточном берегу Тройки, я нашел метеорит. А что еще это могло быть? Заметил я его потому, что он выделялся среди других камней. Величиной с крупное куриное яйцо, абсолютно черный и тяжелый, как гиря. Гладкий и блестящий, словно покрытый глазурью. Жаль, что, покидая север, я свою находку оставил в Плахино.
Несколько дней мы двигались в восточном направлении. Началась тундра, болота и заросшие озера. Брели по голень в воде. Идти было небезопасно, под ногами топко. У каждого в руке длинный шест, подстраховались, связав себя веревкой на случай, если один провалится в трясину. Ночевали на маленьких островках в болотах. На третий день выбрались из болот и пошли на северо-восток по поросшей высокими лиственницами возвышенности. К вечеру дорогу перегородил овраг шириной метров десять, по дну которого среди огромных валунов бурлила речка. Летом перейти через нее не составило бы труда, но вода в это время была уже ледяная, да и погода противная. Дул холодный ветер, шел мокрый снег.
Срубили большую лиственницу, росшую на самом краю, и она легла через овраг. Вершина еле-еле доставала до противоположного берега. Дерево было толстое, и нам бы ничего не стоило перебраться на другую сторону, если бы на самой середине у Адрияна не начался припадок эпилепсии. Я шел впереди, продирался уже сквозь сучья вершины, вот-вот ступлю на землю, как вдруг у меня за спиной затрещали сучья. Адриян упал, но не свалился. Одна нога зацепилась за ствол, вторая болталась внизу. Одной рукой он судорожно держался за сук. Все тело закостенело, как обычно во время припадка, на губах пена. Веревки под рукой не было, она осталась у него в рюкзаке. Я вытащил из штанов шнур, который заменял мне ремень, и примотал руку Адрияна к суку. Ногу к дереву привязал веревкой, которой был опоясан. Адриян бился в припадке. Внизу, метрах в семи, бурлила река. Через некоторое время припадок прошел. Мокрый от пота, как всегда после припадка, Адриян, как мешок, висел на веревках. С трудом удалось мне перетащить его на край обрыва. Он упал в мох и заснул как убитый. Что было бы со мной, если бы он упал с дерева? Внизу камни и течение. Гибель Адрияна могла стоить мне той относительной свободы, которую мне еще предоставляли.
Я соорудил лежанку из еловых веток, втащил Адрияна и запалил костер. Где-то вдали послышались лебединые клики. Потом раздался лай Пирата. Захватив ружье, я пошел посмотреть. Примерно в километре от нашей стоянки речка впадала в лесное озерцо. Почти все оно покрылось льдом, только в районе устья осталась небольшая полынья. В ней плавали лебеди. Сколько их, в темноте рассмотреть было трудно. Вернулся к костру и лег спать. Я так устал, что даже не стал варить чай. Собака тоже успокоилась и легла рядом.
Наутро, чуть забрезжило, я снова пошел к озеру. Подойдя, понял, что на маленьком пятачке водной глади разыгралась трагедия. Птиц было четыре - пара взрослых и два птенца. Молодые летать еще не умели. Родители поднимались в воздух, делали круг над озером и звали детей за собой. Молодые взлетали, но, сделав несколько взмахов крыльями, снова падали на воду.
Адриян был еще не ходок. К тому же у него разболелась спина. Пришлось остаться еще на одну ночь. Да и узнать хотелось, чем кончится история с лебедями. Крепко подморозило. Следовало основательно подготовиться к ночлегу - как зимой. Спальных мешков мы не захватили, значит, придется разжигать большой костер. Самый лучший костер так называемая «нодья». Два сухих бревна лиственницы, длиной полтора-два метра, кладут одно на другое так, чтобы между ними была щель в несколько сантиметров. В нее насыпают уголья из небольшого костра. От горячих углей начинают тлеть оба бревна, и этого хватает на всю ночь. Жар такой, что ближе двух метров не сесть. Бревна не горят, а тлеют всю ночь, и дров подкладывать не надо. За спиной можно навалить груду еловых веток, которые будут отражать тепло.
Мороз усиливался. Нам у костра было тепло, а полынью все больше затягивало льдом. Я несколько раз ходил смотреть, что происходит с лебедями. Помочь им я не мог. Мне всегда животное жаль больше, чем человека. Человек может помочь себе сам, а что может животное? К тому же, человек зачастую сам виноват в своих несчастьях больше, чем ему кажется. Жаль мне было лебедей чуть не до слез. И себя стало жаль. И я на этой чужой земле был похож на молодых лебедей. Даже пес, словно бы все поняв, оставил птиц в покое. Весь день он бродил по тайге и вернулся только к вечеру. Морда и грудь были в крови. Видно, кого-то поймал. Пока снега было мало, кормежка пса никаких проблем не представляла.
К вечеру Адриян немного оправился. Спину я ему лечил по его же методу. Сел верхом ему на спину и, захватывая кожу у позвоночника пальцами, натягивал ее на свою ладонь, пока не хрустнет. Это помогало. Не сродни ли подобный метод так популярной нынче мануальной терапии?
Лебеди были обречены. Если малышам не удастся подняться в воздух, останутся и взрослые птицы. Лебеди потомство не бросают. Красивые, загадочные птицы. Весной они прилетают первыми, когда озера еще подо льдом и земля укрыта толстым слоем снега, чернеют только пригорки в тундре. Кое-где отыщется прошлогодняя клюква и брусника и в устьях речек удается добыть какую-то пищу.
У местных народов существует поверье - если убьешь самку, самец поднимается в воздух, камнем бросается вниз и разбивается. А если убьешь самца, самка отомстит. Можно в это верить, можно не верить, можно вообще никому не верить, но очень часто происходят непонятные, необъяснимые вещи. Сидя у костра, мы с Адрияном вспомнили и обсудили странную, жуткую судьбу живущей в Плахино семьи Мартыновых. Весной пятнадцатилетний сын Мартынова Мишка подстрелил лебедя. Старухи в селе говорили, что Мишке несдобровать. Как-то по льду Енисея Мишка отправился в Носовое, чтобы на небольшой речке, уже свободной ото льда, поохотиться на ондатру. Эти мускусные крысы незадолго до войны были завезены из Северной Америки и сильно расплодились, в том числе и на севере Сибири. Одним из таким мест была речка Носовая. А пока Мишка ловил в Носовой ондатр, в Плахино произошла трагедия.
Возле Плахино в Енисей впадала небольшая речушка. Текла она в глубоком овраге. Весна в том году была бурная, солнце быстро растопило снег, прошли сильные дожди, вода в Енисее стремительно поднялась и затопила еще покрытые льдом притоки. Речушку в Плахино тоже затопило, и лед скрылся под двадцатиметровым слоем воды. Постепенно он таял, отрывался от берегов, льдины поднимались вверх, причем с большой скоростью. Отломившаяся льдина, вылетев вверх, опрокинула лодку, в которой Мишкина мать и его десятилетняя сестренка отправились ставить сеть. Обе утонули. Нашли их спустя некоторое время, когда вода спала. В Носовое отправили человека, чтобы сообщить Мишке о случившемся. Через несколько дней привезли труп Мишки. Он утонул в один день с матерью и сестрой. Хоронили всех вместе. Той же весной погиб на фронте старший сын Мартыновых Николай. Вот и не верь народным приметам! Из всей семьи остались сам Мартынов и младший мальчик.
И на моей совести жизнь двух лебедей. Но, вероятно, местные боги сжалились надо мной, потому что преступление я совершил неосознанно. Подвели меня слабые знания зоологии. Произошло это в первое же лето на озерах. На маленькой лодке я отправился проверять сети, и внезапно перед самым носом лодки появились две странные серые утки с длинной шеей. Я решил, что это или гусята, или какие-то невиданные еще мною утки. Выгнал птиц на берег. Они даже голову на длинной шее не могли удержать, а когда бежали, голова путалась в траве. В пылу погони я убил гусят и начал уже ощипывать их, когда внезапно вспомнил сказку Андерсена о Гадком утенке. Понял, что жертвой охотничьего азарта стали те самые «гадкие утята» - лебеди малыши. На сердце стало нехорошо. Зачем мне понадобилось их убивать? Я не голодал. Непростительный азарт первобытного человека! Убитых птенцов я обложил мхом и еловыми ветками. Зарыть не зароешь - подо мхом вечная мерзлота. В то время я еще не знал предания аборигенов о лебедях. Зато вспомнил замечательную сказку Андерсена и видел лебедей.
На следующее утро Адрияну стало намного лучше, и мы отправились дальше. Позади осталось озерцо и лебеди. Еще долго слышны были клики несчастных птиц. Одна из таежных трагедий близится к завершению...
Пошел густой снег, и мы заблудились. Вечером вышли на собственные следы в том месте, откуда ушли утром. Весь день ходили по кругу. Адриян, казалось, бывалый таежный человек, да и я уже неплохо ориентировался в тайге, но нас словно бы водил «леший».
Поражает способность местных жителей ориентироваться даже в тундре. Это даже не знания, унаследованные от родителей или каким-то иным путем. Это инстинкт, как у дикого зверя. Черная ночь, метет так, что оленьего зада не видно, а туземец мчится во весь опор по тундре, и безошибочно на безбрежной, как море, равнине находит цель. Даже если пьян. Только тогда он несется с непокрытой головой и во все горло распевает песни. Много этих детей природы осталось навечно лежать под Сталинградом. Очередной русский «царь» в качестве пушечного мяса использовал в первую очередь «чучмеков». Старый абориген Семен возвратился с войны без ноги, но по-прежнему носился по тундре и, прыгая на одной ноге, бросал лассо, отлавливая оленей для поездки. В помощниках у него была маленькая белая собачонка.
Однажды ночью к нам пожаловал медведь. Адриян уже спал, я еще сидел возле костра. Инстинктивно бросил взгляд за тлеющие бревна и встретился глазами с медведем. Зверь стоял среди деревьев в каких-нибудь восьми метрах. Я ткнул задремавшего Пирата и крикнул: «Пират! Медведь!» Пес, словно его выстрелили из катапульты, бросился на медведя, как когда- то на Бедовом. Пират был героической и умной собакой, но на сей раз медведя не учуял. Сильный ветер дул с нашей стороны, а медведь умеет передвигаться бесшумно. И у собак бывают иногда «черные дни».
Тайга кончилась, и снова мы несколько дней шли по лесотундре, по тундре и болотам. На меня всегда мрачное впечатление оставляет лесотундра с ее уродливыми, в большинстве своем усохшими лиственницами и еще более уродливыми, случалось, загнутыми в колесо, березками. А если еще льет Дождь или падает мокрый снег и ты промок до нитки, так что еле ноги переставляешь, а идти надо, чтобы не замерзнуть, то и жить не хочется...
Подошли совсем близко к горам Путорана. Места мрачные, но красивые. Нашли кусок бивня мамонта. Безусловно, не сам мамонт потерял тут бивень. Вероятно, выпал из нарт у какого-то аборигена, а найден, скорее всего, далеко отсюда, в оползне, на берегу какой-нибудь речушки, где обычно такие предметы и находят. Кусок бивня был большой и тяжелый. Адриян сразу же отказался его нести. Я тащил клык чуть не весь день, но он становился все тяжелее, и я оставил его в развилке уродливой лиственницы, твердо решив за ним вернуться.
Через несколько дней вышли на берег Енисея напротив Плахино. Усталые, завшивевшие, обессиленные, не обнаружив никаких озер. Озера были наверху, на Путоране. Там озера и реки изобиловали лососем и хариусом. Негу-Икэн, Колтамы, Аян, Хета. Лосося и хариуса ловил я здесь спиннингом тридцать семь лет спустя.
Вот и последняя моя зима на севере. Последняя зима первой ссылки, богатая приключениями. Началось с того, что в самом начале зимы я дважды чуть не ушел в «поля вечной охоты».
Еще летом мы с Модрисом Рубенисом, который жил в Носо-вом (теперь он живет в Звейниексциемсе), договорились о том, что зимой охотиться в окрестностях Носового будем вместе. С полученными в Плахино ружьем, амуницией, капканами мне надо было как-то добраться до Носового, где меня ждал Мо- дрис. Я упустил время, когда по реке еще ходили суда. Енисей уже затягивало льдом. Пароходов не было видно уже несколько дней. Я даже стал беспокоиться, что придется ждать ледостава, но тут, возвращаясь с Ледовитого океана, в Плахино пришвартовалось зверобойное судно «Нордвик». Капитан согласился меня подвезти, но с уговором, что я возьму с собой лодку, чтобы в Носовом ему не швартоваться. Все лодки уже лежали на суше. У самой кромки воды я нашел небольшую старую лодку, до половины вмерзшую в лед. Ни на раздумья, ни на поиски владельца времени не оставалось. Кое-как столкнул лодку в воду. Побросал вещички, подплыл к судну и по сброшенной веревочной лестнице взобрался на палубу. Лодку на длинном канате привязал к борту.
Когда отплывали, Енисей был спокоен, но вскоре задул ветер, и с каждой минутой все сильнее. А возле Носового он уже превратился в леденящий сивер. Река побелела. Я бросил весла в лодку, в которой был не только лед, но и порядочно воды, прыгнул сам. Матрос отвязал веревку, и я остался один на один с неспокойной рекой. Схватил весла, стал вставлять их в уключины и тут с ужасом увидел, что одна уключина сломалась, когда лодка билась о борт судна. Схватил рулевое весло и бросился на корму. Все это произошло в считанные секунды, а в лодке было уже полно воды. Я находился на середине реки, километрах в трех от берега. Греб рулевым веслом что было сил. Волны были ужасные. Воду из лодки не вычерпать, да и черпать было нечем. Лодка, полная воды, подчинялась с трудом. Холод пронизывал до костей. Ватник и штаны покрылись ледяной коркой. Чувствую - конец, настал мой последний час. Я не впервые оказался на Енисее в такой шторм, но тогда я был не один. Обычно двое сидели на веслах, один рулил. Да и погибать в компании веселее, чем одному. Вероятно, самое страшное - умереть в одиночестве. Я был точно напротив Носового. На берегу стояли люди, но все лодки были уже на крутом берегу, как обычно осенью. Я стал кричать. Какая-то женщина на обрыве перевернула лодку и принялась сталкивать ее вниз. Другая бежала с веслами. Я был почти у берега, как огромная волна опрокинула лодку. Я стал «пускать пузыри», но тут ноги мои коснулись дна. Опрокинуло меня на мелководье; местами мели тянутся далеко от берега. На мели волны обычно особенно свирепствуют. Меня и опрокинуло. И волны выбросили меня на берег. Лодка затонула, а на берегу собрались уже почти все жители, среди них Модрис, и мы вытащили лодку. Ничего не смыло - закрепил я все на совесть. К счастью, ветер дул с севера, против течения. Если бы дул южный ветер, меня унесло бы вниз километров на десять, и на берегу я бы оказался один. Пропала бы и лодка со всем содержимым. Мне в очередной раз повезло.
Вспомнилось случившееся в нашу первую зиму на севере. В Плахино нам выдали капусту, которую следовало доставить в Сопочку. Дул сильный южный ветер, но ждать, что он переменится, было некогда. Надо было плыть. В лодку сели мы с Янкой и маленькая отважная Эрна Рамане. Остальные дамы испугались. Енисей и в самом деле был страшен. С большим трудом добрались до Сопочки, но недалеко от берега на мели волны опрокинули нашу лодку. Ночь напролет всей бригадой вылавливали кочаны из воды, которые река то швыряла на берег, то снова смывала и уносила на несколько километров вниз по течению.
Как бы то ни было, до Носового я все же добрался. Пока взбирался на гору, ватник и штаны смерзлись в ком. В ватной одежде было относительно тепло и удобно, но если она намокала, высушить ее было огромной проблемой. Да и тепло такая фуфайка уже не держала.
Через несколько дней перебрались на правый берег Енисея и разместились в старой рыбацкой избе. Отсюда тропа вела на Щучье, и я решил посетить знакомые места. Шагая по тонкому льду Пеляжьего озера, я провалился. Но спасибо длинному шесту, который я захватил с собой, - я сумел все же выкарабкаться. Когда я оказался по горло в воде, первая мелькнувшая мысль была: табак намокнет. До избы на Щучьем оставался примерно километр. Слава Богу, что раньше, охотясь здесь, я оставил в избе приличный запас дров. Если бы не они, я бы замерз в этой одинокой, выстывшей насквозь избе. Спас меня старый закон тайги - уходя, всегда оставляй запас дров и бересту на растопку, для тех, кому случится прийти после тебя. Когда-то, в старые времена, в избах оставляли и что-нибудь съедобное.
Всю ночь я сушил еще и после первого купания как следует не просохшую одежду. На следующий день отправился обратно. Самочувствие было неважное. Почти всю дорогу бежал, чтобы не замерзнуть. Временами начиналось нечто похожее на бред. Хотелось сесть, отдохнуть, но я понимал, что это смерть. Когда ввалился в нашу избу на берегу Енисея, не мог вымолвить ни слова. Только раскрывал беззвучно рот, словно рыба. Горло свело. Модрис в это время готовил строганину - крошил ножом замерзшую рыбину. Я был голоден как волк. Наелся, напился крепкого чаю и пошел спать. Утром проснулся здоровым.
Охотились мы в окрестностях Носового на обоих берегах Енисея. Жили по большей части в своей избе, но часто ночевали и в Носовом. В вырытой в обрыве реки Носовой землянке жили мать Модриса, а также Илга и Юрис Бушменисы. Это были здесь единственные латыши.
Носовое - небольшое село, всего пятнадцать или двадцать домов. Был здесь магазин, заезжий двор и даже двухклассная школа с одним учителем. Детей этого возраста в селе было много.
Самыми знаменитыми жителями Носового были братья Машихины, Иван и Куприян. Староверы, очень религиозные, но просто пылавшие ненавистью друг к другу. Никто не знал причины этой ненависти и не знал, как все начиналось. Иван жил на одном берегу речки Носовой, которая делила село на две части, Куприян - на другом. Иван охотился только на своей, северной стороне, Куприян - только на южной. Избы у них были добротные, оба были людьми зажиточными и, вероятно, были бы раскулачены, если бы уже не жили на севере. Ссылать их еще на несколько сот километров севернее не имело смысла. У обоих было много икон. Почти черных, ничего толком и не разглядеть. У Ивана было много книг о святомучениках, и он охотно нам о них рассказывал. Куприян был мрачный, не-разговорчивый старик. Худющий, со впалыми щеками, как на иконах у святых.
Вскоре после моего появления в Носовом Куприян умер. Брат на похороны все же пришел. Похоже, что мрачный усопший и был главным, кто поддерживал огонь ненависти. Сын Ку- прияна Василий от отцовского «наследства» отказался. Вражда русских старообрядцев не выросла до уровня сицилийской или корсиканской вендетты.
Жили в Носовом Павел и Николай Баяндины. - отец и сын, родня моего друга Адрияна. Трезвые - люди как люди, помогали друг другу, а пьяные становились зверьми. Сын гонялся за отцом с колом, а то и с топором. Случалось им и меняться ролями. Во время одной такой «заварушки» отец чуть не откусил сыну палец.
Еще в Латвии, когда пришлось читать обязательную литературу - «Детство» Горького, я с трудом верил, что возможны такие дикие драки между отцами и сыновьями, какие были описаны в книге. Но в России подобные вещи мне доводилось видеть не раз. Откуда в людях такое варварство, дикость, грубость, необузданность? Наследие татарского ига, под которым они жили не одно столетие? Баяндины были не русские, из пермяков (финно-угорского происхождения), но все малые народности, жившие на территории, называемой Россией, - пермяки, вятичи, мордва, чуваши и др., - утратили свой язык, обычаи и все прочее, так что ничем уже не отличались от русских.
В городе моего детства Екабпилсе, об этом я уже упоминал, жило много русских. Отличались они грубостью, необузданностью, пьянством. Может быть, именно пьянство пробудило все прочие дурные наклонности? В детстве никаких особых разногласий с русскими сверстниками у нас не было. Вместе играли, купались в Даугаве, удили рыбу - латыши, евреи, цыгане, русские. Но главными хулиганами все же были русские. Меньше всего их было среди евреев. Уровень образования, культуры, интеллигентности у латышей был выше, чем у меньшинств. Объяснялось ли это знанием языка? Нет, не это было главное. Главной причиной, мне кажется, было стремление латышей к знаниям, стремление получить образование. Любой ценой, преодолевая все трудности. Только благодаря этому качеству у столетиями угнетаемого народа выросла своя интеллигенция, составившая конкуренцию интеллигенции угнетателей. У других живших в Латвии народов стремление это было не так ярко выражено. Разве что у евреев оно было ещё сильнее, чем у латышей. Но меньше всего получить образование стремились русские. Они всегда считали себя привилегированным, избранным народом, «старшим братом», который и необразованный на голову выше всех. Основатель и директор знаменитой когда-то Екабпилсской торговой школы Лудис Берзиньш пишет в своих воспоминаниях: «В Екабпилсе евреев было довольно много, и все они стремились получить образование. В русские гимназии евреев принимали в ограниченном количестве, с большим отбором, а русских - кого придется. В Екабпилсскую торговую школу принимали евреев без всяких ограничений.»
На основании всего вышеизложенного можно ли обвинить меня в латышском национализме, или, как говорили еще недавно, в «буржуазном национализме»? Кое-кто, конечно, попытается. На такие обвинения могу ответить, что в жилах моих течет половина русской крови, что почти треть своей жизни я прожил в России и меня волнует судьба и России, и русского народа. Однако я достаточно долго общался с русскими, и это позволяет мне объективно судить и сравнивать ментальность этого народа, видеть и его хорошие, и его плохие качества.
Раз уж я пишу о Носовом, не могу не рассказать о курьезном случае, который произошел с моим другом немцем Андреем. Закадычным моим другом он, конечно, не был, но все мы, ссыльные, в какой-то степени были друзьями. Всех нас объединила общая судьба.
Судьба в большой степени зависит и от самого человека, и Андрей судьбу свою в то довольно голодное время старался если не изменить, то хотя бы несколько подправить с помощью местной продавщицы Кати. Продавец в таком населенном пункте - главное лицо. Дружба с ним сулила жизнь более сыт-ную, чем у других. Муж Кати был в армии, и Андрей начал его заменять. И совершенно открыто. Он, конечно, «как сыр в масле катался». С Андреем в то время мы встречались редко. Мы с Модрисом пропадали в тайге, в село приходили раза два в месяц за продуктами. И тут уж Андрей рассказывал мне о своих приключениях с Катей, причем во всех подробностях. Все это было интересно, возбуждало мою фантазию, но было неприятно, что Андрей рассказывает обо всем так откровенно. Я завидовал ему в принципе, но не его отношениям с Катей - была она гораздо старше Андрея, да и не красавица. Я истосковался по любви, но мне не везло. Я не встретил еще ни одного объекта, с которым хотя бы мысленно позволил себе отношения, подобные «Декамерону» Андрея.
Однажды Катя получила телеграмму, что муж едет на побывку. Но, ужас, она же в положении! И давно, так что ни для кого это уже не секрет. Что-то надо было делать, и притом срочно! Катя взобралась на самый высокий штабель мешков с мукой, лежащих на складе, и прыгнула на нижний штабель прямо животом. Когда я спросил у Андрея, чем все кончилось, он, смеясь, ответил: «Вылетел как пробка!»
Приехал Катин муж, избил жену (как в «Тихом Доне» Шолохова), пожил с неделю в Носовом, пьянствуя, распевая песни и плача, и, избив на прощанье жену еще раз, уехал. Андрей вернулся из Плахино, где скрывался от справедливого гнева ревнивого мужа, и роман с избитой до синевы Катей продолжался. Один из героев русского писателя Успенского писал: «Дикие нравы царят в нашем городке, господа!»
Я уже говорил, что никакого пьянства в нашем регионе во время войны не было, во всяком случае, оно не носило массового характера. Мужчин мало, да и средств мало. Главным напитком в то время была «бражка». Исходное сырье - сахар, конфеты (если таковыми можно называть слипшиеся в мешке «подушечки») и сухофрукты. Перед очередным праздником женщины скидывались, отдавая свою долю сахара, и одна из них бралась ставить бражку. Когда бражка была готова, в нее добавляли бутылку спирта. Помню, однажды правление колхоза в Плахино готовило бражку к годовому отчетному собранию- «балу». Пили все, кто хотел. На другое утро те, кто мучился похмельем, бегали в колхозную контору с ложками - черпануть гущи со дна бидона.
Семен Меджидов рассказывал, как туземцы однажды просили научить их ставить бражку. Семен положил все, что требуется, в бочонок и поставил его к туземцам в чум. Бражка зреет дней десять, а все племя в первый же день уселось у входа в чум с кружками в руках и принялось ждать заветного дня.
Много повидавшая хозяйка заезжего двора совершенно серьезно рассказывала о таком случае. Сын прислал с фронта весточку, что через неделю приедет погостить. Мать поставила бражку. Проходит неделя, две, месяц, другой, сын все не едет. Чтобы бражка не прокисла, старая все время подсыпала сахар. Наконец сын приехал. Собрались гости, разлили бражку по стаканам. Первый, кто выпил, - сразу под стол! Рассказчица совершенно серьезно сказала: «Знаешь, бражка крепче ста градусов была!» Я, конечно, не мог ей растолковать, что больше ста градусов не бывает.
Не помню, чтобы кто-нибудь гнал самогон. Да и сырья не было. Но если крепкую бражку выставить на мороз, компоненты замерзали, и крепость оставшейся жидкости достигала 70-80 градусов.
На вечеринки с бражкой женщины всегда приглашали нас с Модрисом. Меня скорее из-за Модриса: он требовался как музыкант. Он играл на скрипке, а какое пение и танцы без музыки?

Семья Кнагис в г. Екабпилсе, начало XX в. Слева - мать отца Минна, умерла в
1945 г. в Германии, как беженка, брат отца Альберт, умер в 1980 г. в Англии,
как
беженец, отец отца Давис Кнагис, погиб в 1920 г. в России, как беженец,
мой отец
Эмиль погиб в 1941 г. в Вятских лагерях Кировской области,
находясь под
следствием.

Отец Эмиль Кнагис 1916 г.

В июне 1941 года из десяти сотрудников
Екабпилсского отделения Госбанка Латвии были высланы четверо:
Мина Рубенис (1-й ряд, первая слева), Эмиль Кнагис (1-й ряд, второй слева),
Алма Павулиня (1-й ряд, четвертая слева), Арнис Потцепс (2-й ряд, пятый слева).

Вручение наград айзсаргам 4-го Екабпилсского полка. 1938 г. Первая справа -
Мария Кнагис.

Семья Эмиля Кнагиса в день его пятидесятилетия. Слева: Илмар, Мария Кнагис,
сестра Елена. 1938 г.

На строительстве канализационного коллектора на ул. Клияну. Рига. 1949 г.
Справа - Илмар Кнагис.

Справка об освобождении Илмара Кнагиса из ссылки в с. Тасеево Красноярского края.

Жена Лидия с дочкой Инной вскоре после приезда в Ригу. Весна 1963.
Откровенно говоря, мне пиликанье Модриса резало слух. В последние два года (а может быть, и три) перед высылкой я тоже учился играть на скрипке. Овладевать этим великолепным инструментом я начал под руководством отца, потом один год учился у сестры композиторши Лаумы Рейнхолде - скрипачки. Последний год моим преподавателем был какой-то известный впоследствии дирижер, который два или три раза в неделю приезжал в Екабпилс. Вместе со мной учился мой одноклассник и друг Майгонис Бауэре, позже знаменитый солист Венской оперы. (Сейчас он носит имя Карл Земгалс-Бауэрс.) В нашей компании был и наш известный актер и режиссер Гунар Цилин скис. Его мать, очень красивая женщина, заведовала магазином фирмы В. Кюзе в Екабпилсе. Ни из одного из нас скрипач не получился. Но, по крайней мере, двое моих коллег стали замечательными художниками.
Как бы то ни было, мне искренне жаль, что ссылка перечеркнула еще в самом начале мое музыкальное образование. Я не так уж прилежно учился играть на скрипке, как, впрочем, и вообще не был таким уж прилежным учеником, но скрипку я очень любил. Я не стал бы профессиональным скрипачом, но играл бы, вероятно, неплохо. Как мой отец. Для себя и для близких. У отца было две скрипки. Одна была хорошая, но простая скрипка, на ней я учился и играл. Вторая была - что-то особенное! У нее был великолепный звук. Настоящая концертная скрипка, работа старого мастера. Когда мой отец в 1921 году вместе со своей молодой женой, моей матерью, возвращался из России в Латвию, ее мать подарила отцу эту, унаследованную ею от своего отца скрипку. Сделана она была из какого-то полосатого дерева. И украшали ее широкие темные полосы, а гриф - перламутровые пластины. Черный деревянный футляр напоминал гроб. Играть на ней отец разрешал мне очень редко. Только когда я уже кое-чему научился, играл, например, «Менуэт» Боккерини и т.п. Так что я еще в детстве понял разницу между как будто одинаковыми инструментами. Отец много рассказывал мне о скрипках. О том, что у скрипки есть «душа» - маленькая палочка, зажатая между верхней и нижней плоскостями, которую скрипичный мастер передвигает бессчетное число раз, пока не поймает ее настоящее место, пока не добьется настоящего звучания инструмента. В детстве я слышал, что у меня так называемый музыкальный, или абсолютный, слух. Я, правда, до сих пор не знаю, что это такое, но помню, как мне резало слух пиликанье Модриса, как в детстве пиликанье Майгониса - словно кто-то ведет железом по стеклу, так что мурашки по телу и волоски дыбом.
Когда я взял в руки скрипку Модриса, то понял, что со своими пальцами играть больше не могу. И больше не пробовал. Сейчас иногда сожалею. Это было малодушие, душевная вялость и главный виновник всех бед - лень. Не всегда в своих несчастьях надо винить судьбу или кого-то другого. Зачастую самый главный виновник - ты сам. Позже у меня была возможность научиться играть на гитаре, но я этим не воспользовался. Но тут, по крайней мере, я могу сослаться на то, что заочно учился, и ни на что другое времени не оставалось. Музыкальный слух я использовал впоследствии, чтобы настраивать гитару для своей жены. Это мне давалось легко, и я был точен.
Бывает, какое-то событие на всю жизнь остается в памяти, даже если оно произошло в раннем детстве. Одно из таких воспоминаний - отец играет мне перед сном на скрипке. Я был совсем маленьким, потому что кроватка, в которой я лежу, с решетками. Играл он «Айя, жу-жу, медвежата...» и еще что-то грустное и красивое...
В ту зиму, когда умер Куприян, мы с Модрисом часто гостили в Носовом у его вдовы, приветливой, радушно нас принимавшей женщины. Подружились с ее сыном Василием и красивой дочкой Надей. Возможно, это и было главной причиной наших посещений. Нередко мы жили у Машихиных неделями. Вдова, похоже, нам полностью доверяла - рассказывала такие вещи, за которые грозила тюрьма. Рассказывала о Сталине. Во время своей последней ссылки Сталин и Свердлов сначала жили в Туруханске, потом Сталин был сослан в небольшое село Курейку. Машихина, тогда Перепрыгина, тоже жила сначала в Туруханске, потом в Курейке и обоих «разбойников» хорошо знала. Ее старшая сестра жила со Сталиным и «нажила» от него мальчонку. Вдова Куприяна показывала нам фотографию племянника. Парень был очень похож на Сталина. В то время он служил где-то на Дальнем Востоке. Фотография была сделана, очевидно, в начале войны, потому что на воротничке видны были два или три треугольника. Вдова рассказывала, что Сталин однажды прислал сыну деньги, но тот отправил их обратно с припиской, что не признает отцом того, кто когда-то бросил его мать. О Сталине рассказывал и Иван Машихин и еще один «замшелый» старик. В нарисованном этими людьми портрете не было ничего ни привлекательного, ни героического. Сталин был хитер и мстителен. Как-то у Сталина собака стащила кусок мяса, так он весь день гонялся за ней по селу. Пес спрятался под каким-то сараем. Вечером Сталин выследил пса и убил.
Иосиф был страшно ленив. Денег, выплачиваемых царским правительством политическим ссыльным, вполне хватало, чтобы не умереть с голоду, так что работать большой нужды не было.
В конце тридцатых или в начале сороковых в Курейке возвели большой павильон из стекла и бетона. В павильоне стояла изба, в которой когда-то жил Сталин. На стене в избе висели сети и капканы, с которыми Сталин якобы когда-то рыбачил и охотился. Но наши старики рассказывали, что ни одной сети, ни одного капкана ленивый Иосиф не поставил. Только лежал и плевал в потолок. В прямом значении слова. Была у будущего полубога такая привычка.
И еще была у Сталина интересная особенность. Он обладал способностью влиять на людей и лечить их. Туземцы приезжали к нему даже издалека - как к шаману. Тогда слова «экстрасенс» еще не знали, а сейчас, возможно, его можно было бы считать экстрасенсом высочайшего класса. Насколько мне известно, об этой его особенности до сих пор не упоминал ни один историк, ни один его биограф. В приходе Сталина к власти много загадочного и непонятного. Неужто же люди вокруг Сталина были настолько глупы, что он быстро с ними расправлялся, убирая всех подряд, не наталкиваясь на сопротивление? При этом преобладающее большинство были образованней Сталина. Все это напоминает «синдром кролика».
Любое пассажирское судно, проходившее мимо Курейки, швартовалось у причала, и пассажиры должны были посетить музей Сталина - павильон с избой. Сейчас от избы и следа не осталось. Скульптуру Сталина сбросили в Енисей. Рассказыва-ют, что в безветренную погоду она видна на дне. В павильоне, стены которого пестрят надписями, встречающимися на за-борах и туалетах, собираются выращивать огурцы. Sic transit gloria mundi! - как говаривали древние мудрецы. Так проходит мирская слава! В молодости убивал в Сибири собак и, в конце концов, и сам сдох в одиночестве, как шелудивый пес. Хоть бы кому-то из великих мира сего пришло в голову, что и его когда-нибудь ждет то же самое, что всех.
Так я бродил по тайге и тундре, убивая бедных животных. Никакой выдающийся охотник за эти годы из меня не получил-ся, но иногда кое-что попадалось. Бывали дни, когда удавалось подстрелить пять-шесть белок, попадался в ловушку горностай, особенно в самодельный «арбалет». А вот на песцов - белых по-лярных лис - мне не везло. Они жили далеко в тундре, и чтобы до них добраться, нужны были олени. Рассказывали, правда, что бывают годы, когда лисы мигрируют и на берега Енисея, но при мне этого не случалось. Продуктов «задарма», как в первую зиму, уже не давали. Система оплаты была примерно такой же, как у рыбаков: сколько поймаешь, столько и получишь. Есть такая пословица: «Волка ноги кормят», и я в эту последнюю зиму одолел уйму километров. Сотни, а то и тысячи. Бывало, по неделям не раздевался. Ночевал у костра, ел поджаренных на вертеле белок, зайцев. Много было приключений. Я любил тайгу и тундру, но не охоту.
Что ждало меня в будущем? Не имевшего образования, лишенного прав, испытывавшего мучительное чувство неполноценности. Об этом я думал все чаще. Иногда, сидя у костра в одиночестве, хотелось волком выть. Чьи песни в тихие ночи доносились откуда-то издалека.
Надо было перебираться в город. Во что бы то ни стало! Неужто же всю жизнь бродяжничать в тайге?
Модрис зимой женился и стал работать по хозяйству. Я всю зиму охотился, а весной и меня «впрягли» в хозяйственные работы. Возил сено, заготовленное летом по берегам реки и на островах. И тут меня настигла беда, которая давала о себе знать потом всю жизнь. Лед на реке местами напоминал слоеный торт: проступала вода, потом шел снег, снова появлялась вода, которая замерзала. Весной в таких местах подстерегала опасность. Однажды мои сани провалились в такой «торт». Я хлестал кнутом коня и, напрягаясь из последних сил, пытался приподнять плечом сани. И тут что-то случилось со спиной. Перед глазами потемнело, и выпрямиться я уже не смог. Так и остался - как наполовину открытый карманный нож. Пролежал с неделю. Но в юности все заживает быстро. Как на собаке. Походил какое-то время скособочась, а к ледоходу был уже в полном порядке. Так начался мой радикулит, который очень скоро стал посещать меня ежегодно. Сначала один раз, потом два и три раза в году.
Весной в Плахино развернулось большое строительство. Предстояло построить большой хлев, чинить старые постройки. Меня тоже приставили к этой работе. Нужны были доски, много досок, для полов и для кровли. Пилить доски назначили нас с Андреем, с тем самым, фаворитом продавщицы из Носового. Нашим учителем и инструктором был Адриян.
Каких только работ не приходилось мне делать, но такую трудную, как пилка досок, никогда. Особенно вначале, пока не научились кое-чему и не привыкли, пока не наросли нужные мышцы. Попробуйте весь день махать руками вверх-вниз без пилы! А с пилой, да с тяжелой, в несколько раз больше и тяжелее обычной поперечной пилы, пятьдесят зубьев цепляются... В первые недели по утрам вставали с муками. Болела каждая косточка, рук было не поднять. А были мы далеко не хилые ребята.
Пилили несколько месяцев. Привыкли. Работа была тяжелая, но платили хорошо. Наконец я почти избавился от долгов, копившихся весь год. И за сгнившие и порванные сети, и за утерянные капканы, за раньше срока порванные или прожженные у костра ватники и еще черт знает за что.
Многие постройки в Плахино покрыты напиленными мною досками. По озерам плывут сделанные из моих досок лодки. Осенью, когда катер увозил меня из Плахино, долго еще виднелись белые дощатые крыши и срубленные мною белые бревенчатые стены нового коровника. Я даже испытал чувство некоторой гордости - какие-то следы, какую-то память о себе я оставил в этом далеком краю.
Летом нас с Андреем направили на знакомые уже мне Чумные озера пилить доски для лодок. Там я порыбачил немного, а в конце лета меня отозвали обратно в Плахино. Колхозное руководство решило построить базу для молодняка километрах в пятнадцати от Плахино, возле Филькиного острова.
Отправились туда вчетвером. В бригаде плотников обычно было четыре человека - на каждый угол по одному. Турок Семен Меджидов, пермяк Адриян Баяндин, недавно вернувшийся с фронта русский Найденов и я. Получили продукты, сели в лодку и отправились в путь.
Как я уже упоминал, сено с прибрежных лугов зимой везли в Плахино, где находился весь скот. Но в том году колхозное начальство приняло воистину мудрое решение - телят, которых не надо доить, перевести туда, где заготавливают сено (воз-можно, наши знаменитые малениеши и не были столь глупы, когда заводили корову на крышу траву есть). Таким местом был Филькин остров. Весной во время половодья остров накрывало водой, поэтому решили строить на правом берегу Енисея, на-против северной оконечности острова.
В те времена уже никто не мог толком ничего рассказать о рыбаке Фильке, именем которого были названы и самое большое в окрестностях озеро, и остров, и речка, которая впа-дала в Енисей напротив острова, по которой мы как-то с Кошелеым плавали. Видно, Филька был более знаменит, чем Ленин и Сталин, потому что их именами здесь ничего не названо.
Когда спустя много летя снова побывал на берегах Енисея, стогов сена не увидел. А места эти идеальны для развития животноводства - весной тут за пару недель трава вырастает выше пояса. Сейчас для немногочисленных буренок, которых там еще держат, корма везут из Красноярска. Но как говорится, «в чужой монастырь со своим уставом не лезь». У нас у самих сейчас хватает нелепостей, так что и тут есть чему удивляться...
Новою животноводческую ферму надо было строить из бревен, которые штабелями лежали по берегам Енисея. Шторма, которыми славится Енисей, разбивали плоты и выбрасывали бревна на берег. Хозяев у них не было, бревна вылавливали и вытаскивали на берег все кому не лень, кто хотел и кто мог. Вылавливали в основном весной, когда половодьем несло по реке выброшенные прошлым летом на берег бревна. Бытовало даже такое выражение: «Весной бревнами расплачусь». Для кого-то такое «уженье» в бушующих весенних водах заканчивалось трагично.
Сами мы, хоть мужики и крепкие, дотащить бревна к месту стройки, безусловно, не смогли бы, так как собирать их приходилось иной раз и за несколько километров, а потом еще затаскивать на высокий обрывистый берег. Нам сказали, что косари весной оставили на острове кобылу, которую мы должны использовать в качестве гужевого транспорта. Но сначала кобылу нужно было поймать и перевезти с острова на берег. А это оказалось гораздо сложнее, чем мы предполагали. Остров в длину растянулся почти на пять километров и в ширину на километр, чистые луга, только вдоль берега непролазные кусты да в нижней его части небольшой лесок. Кобылу мы вскоре нашли, да не одну, а с жеребенком. Вероятно, потому и оставили косари ее на острове. Сибирские лошади и так-то дикие, а наша кобыла, видно, из-за жеребенка превратилась в настоящего мустанга и ни за что не давалась в руки. Мы повели себя как настоящие ковбои, бегали по острову, размахивая наскоро изготовленными лассо и улюлюкали. Семен от жеребенка даже получил по зубам. Хорошо еще что от жеребенка. Кобылу поймали на второй день петлей. Выложили петли на тропинке среди кустов, как браконьеры выкладывают петли на оленей.
На высоком берегу, куда не достают вешние воды, выру-били площадку, собирали на берегу бревна и затаскивали их наверх, потом начали строить. Жили в юрте из еловых веток и наваленного на них сена. У нас была сеть и ружье. В Филькиной речке ловили хариусов, иногда удавалось подстрелить утку. На острове было полно красной и черной смородины. Ягоды были в самом соку.
Это была моя последняя стройка на севере. Когда спустя много лет, в 1988 году, я проезжал на катере мимо этих мест, бушевал шторм, и к берегу пристать было нельзя. Вероятно, от избы и фермы уже ничего не сохранилось, как и от всего остального, что строили и те, кого судьба привела сюда еще в царские времена, и высланные в советское время латыши, литовцы, калмыки, немцы, украинцы, греки и представители многих других национальностей. Уничтожено почти все. Остались только развалины и сгнившие кресты. И затекшие смолой следы от крестов, вырубленных в стволах лиственниц.
Многое из тех времен я помню до мелочей, но об одном из важнейших событий тех лет - о моем первом «освобождении» (которое таковым, как потом оказалось, и не было) - сохранились очень смутные воспоминания. Вероятно, потому, что случилось это слишком неожиданно, и готовился я к отъезду в такой спешке, что и глазом моргнуть не успел, как уже плыл на последнем в эту навигацию пароходе в Красноярск, чтобы оттуда отправиться в Латвию. Насколько мне помнится, в то время, когда я строил ферму, мама в Плахино получила извещение от коменданта Игарки, что дети, вывезенные из Латвии несовер-шеннолетними, а значит, и я, могут вернуться домой. В это же время мама получила из Екабпилса денежный перевод. Деньги собрали жители Екабпилса. По городу из рук в руки передавался список, и люди жертвовали, кто сколько мог, чтобы сын Эмиля Кнагиса вернулся на родину. Так что за возможность первого возвращения я должен благодарить свой родной город и своего к тому времени уже погибшего отца, о котором сохранилась светлая память в сердцах жителей города.
Пароход вез меня на юг. Позади остались Плахино, Сопочка, озера и недостроенная ферма возле Филькинского острова. Позади остались долгие, трудные годы ссылки. Я еду на родину! Но тогда я и представить себе не мог, что после столь долгого странствия и стольких приключений, через двадцать месяцев, прожитых в неспокойной послевоенной Латвии, мне еще раз придется отправиться в странствие по северу. Еще более трудное и унизительное, чем первое.
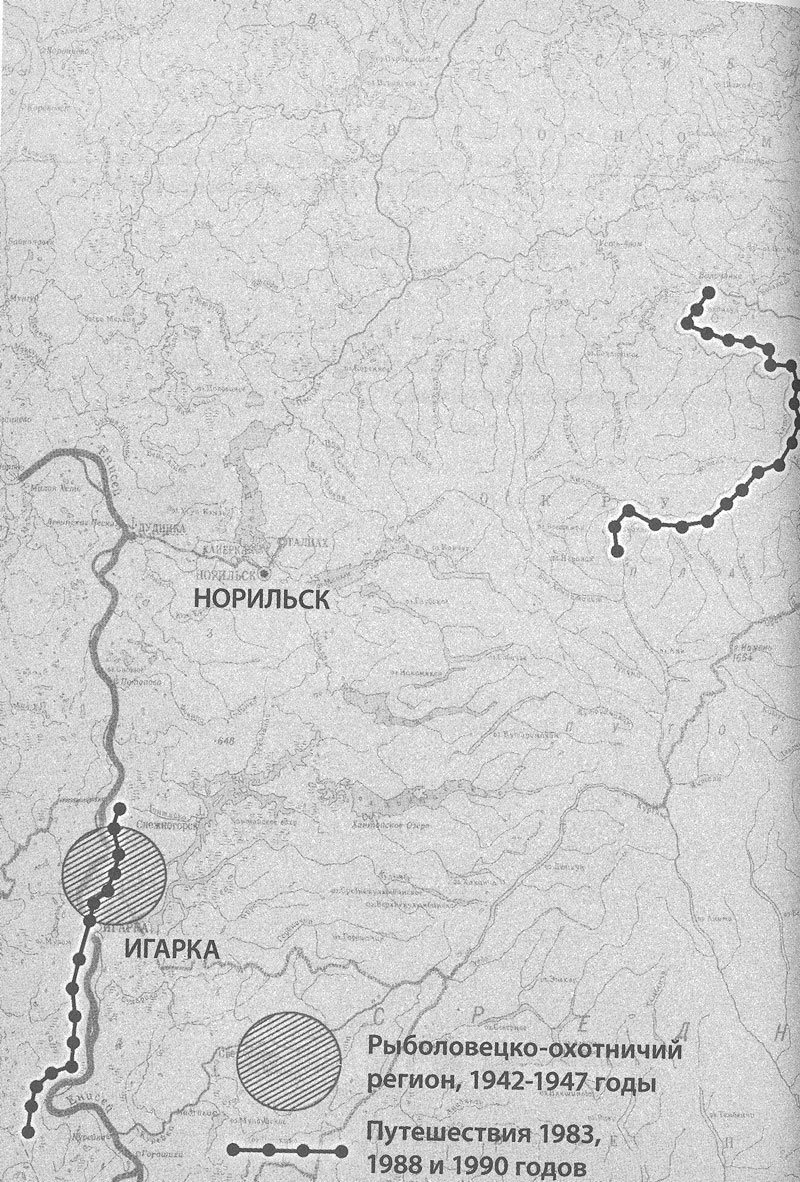
Рыболовецко-охотничии регион, 1942-1947 годы
Сам Сталин отсюда три раза бежал,
По Грузии знойной скучая,
И этим он всем нам
пример показал,
И рвём мы, -завет выполняя,
С Нижней Тунгуски,
С Нижней
Тунгуски.
Шуточная песня сибирских геологов
Пассажирский пароход «Серго Орджоникидзе» вез меня на юг - на родину. Это был последний пароход в навигацию 1947 года. Енисей грозил вот-вот стать.
Я возвращался в Латвию. В это плохо верилось. Неужто здравый смысл наконец возобладал - признали, что дети не виновны в том, в чем обвиняют их отцов? А разве виноваты жены, если виноваты мужья? И в чем заключалась вина латышских мужчин? Мы тогда еще не знали, что в России в 1937 году были расстреляны десятки тысяч латышей только за то, что они латыши. Мы в те времена многого не знали и не понимали, и даже пытались если не оправдать, то хотя бы понять, найти в происходившем какую-то логику, какие-то непонятные нам причины всему, что с нами произошло, что с нами сотворили.
Но чем можно было оправдать гибель детей в Агапитово, гибель наших отцов в Вятлаге, если это вообще не выдумки?
Ехал один. Мама осталась в Плахино. Я был уверен, что как только окажусь дома, сумею вытащить и ее. Ведь война закончилась. Мы тогда думали, что виной нашей ссылки является война. Мы еще не знали, что депортация была запланирована гораздо раньше и произошла бы так или иначе. Какими наивными мы были! Но очень скоро и мне, и всем остальным, кто был выслан несовершеннолетним и теперь возвращался на родину, пришлось убедиться, что в Советском Союзе здравый смысл, закон, правосудие, забота о детях и вообще о людях - пустые слова, что война хоть и закончилась, но ничто не изменилось, что предоставление нам свободы - ошибка, которую можно объяснить единственно тем, что в очередной раз «правая рука не знает, что делает левая», как было в России испокон веков.
Но сейчас я плыл по Енисею под звуки музыки на одном из тех блистающих огнями пароходов, на которые еще совсем недавно смотрел с высокого обрыва Сопочки. Смотрел с грустью и тоской на пароходы из сказки, на которых ехали, куда хотели, счастливые, свободные люди. Я тогда еще не знал, что в Советском Союзе слово «свобода» вообще понятие относительное, что кому и по какую сторону «забора» находиться, лишь вопрос времени, случая и блажь группы преступников. Славный чекист № 1 Феликс Дзержинский говорил: «То, что вы еще до сих пор не в тюрьме - это не ваша заслуга, а наша недоработка...» Вот так!
Единственным документом, с которым я отправился в путь, был клочок серой оберточной бумаги, на котором рукой колхозного бухгалтера госпожи Пурини было написано, что я по собственному желанию уволился из колхоза «8 Марта». Разве же это документ?! Как говорится - до первого милиционера. На основании этой бумажонки в Игарке я якобы должен был получить паспорт, но для этого уже не оставалось времени. В порту стоял последний в эту навигацию пароход.
Одет я был не очень элегантно. В ватнике, первоначальный цвет которого определить было невозможно из-за многочисленных заплат. На голове заячья шапка. Охотничий нож, который я постоянно носил на поясе, знакомые игарчане советовали спрятать подальше.
Когда на катере я прибыл в Игарку, до отхода судна оставалось всего несколько часов. Побывал у своей подруги по «каторге» на Щучьем, у Веры Янцовой, которая вышла замуж за Волдемара Либрехта. Недавно у них родилась дочь (позднее известный многим в Латвии филолог Дзинтра Хирша). Мне казалось нереальным, что в условиях ссылки люди женятся и у них рождаются дети. Странное ощущение нереальности происходящего преследовало меня довольно долго. Это было как бы чувство неполноценности, порожденное сознанием огра-ниченной свободы. Даже позднее, уже приобретя профессию и неплохо зарабатывая, я по-прежнему не чувствовал опоры под ногами. Я не был свободен.
И хотя билетов на пароход уже не было, я все же попал на него, только не помню, каким образом. Сам я вряд ли сумел бы: «человек из тайги». Какие-то латыши из Игарки устроили меня в кубрик к кочегарам, где были две свободные койки. Вторую занял инженер из Норильска. Каюта находилась на корме. Через задний иллюминатор виден был пенистый след, оставляемый пароходом, и стаи чаек, которые с громкими криками сопровождали нас всю дорогу. Вероятно, это были разные чайки, пролетев за нами некоторое расстояние, они передавали эстафету другой стае.
Народу на пароходе было битком. Последнее судно подобрало всех, кто хотел и мог покинуть север. Люди спали на палубе, в коридорах, везде, где только можно было приткнуться. После окончания договора домой возвращались завербованные рабочие и прочие охотники за «длинным рублем». Ехали отбывшие наказание заключенные, среди которых уголовников было не так уж много. Большинство были колхозники, попавшиеся на нескольких килограммах картофеля или на мешке колосьев. Политических не было видно. Их путь был короче - на свалку трупов в ущельях Путорана. Во время поездки я еще многое узнал о Норильске от своего соседа по каюте.
Километрах в двухстах южнее Игарки пароход причалил. На берегу торчало строение из стекла и бетона высотой с трехэтажный дом. Перед зданием стоял Он. Тот, кого мне надлежало благодарить за «счастливое» детство и юность. Все пассажиры по дощатым мосткам направились мимо застывшего железобетонного полубога к мерцающему огнями павильону, как в храм. Посреди павильона стояла вросшая по окна в землю изба, в которой когда-то жил Сталин. По стенам были развешаны капканы и сети. Все должны были расписаться в гостевой книге. Вспомнилось недавно услышанное от стариков в Носовом, и мне показалось, что те, кто сейчас надзирает за этим «святым» местом, читают мысли на моем лице или на затылке, когда я шел обратно, и у меня похолодела спина, как в тот момент, когда на Остяцком озере я убегал от коменданта Фомченко в тайгу.
Через несколько дней мы оказались в красивейших местах под названием «Осиновские щеки». Здесь река пробивалась сквозь узкое скалистое ущелье. А посреди реки высились острые скалы - знаменитые «Кораблик» и «Барочка». Понятно, что сейчас я видел все иначе, чем пять лет назад.
Прибыли в Енисейск, бывшую столицу этого дикого, забытого Богом края Российской империи. Енисейская тюрьма была знаменита и при царях, и при коммунистах. И много латышей тоже встретили здесь свой последний час.
Потом были небесно-голубые воды Ангары, впадающей в Енисей. Разве мог я подумать тогда, покидая, казалось, север и Сибирь навсегда, что лет через десять буду плавать в ее ледяных, кристально-чистых водах, поплыву по Ангаре на лодках и пароходах и на берегах этой реки родится моя дочь?
Потом преодолели интересное место - Казачинские пороги, через которые суда волокли лебедками, установленными на берегу. Нигде в мире ничего подобного нет.
Все это было бы очень интересно, если бы страшно не хотелось есть. Деньги надо было экономить на железнодорожный билет. Мама дала мне с собой солидный мешок сухарей. Кипятку было сколько угодно: на пароходе стояло несколько «титанов» - баков с горячей водой. Но добраться до них было не просто, приходилось перешагивать через людей, лавировать среди сидящих или лежащих, зачастую очень злых пассажиров, которые вынуждены были покидать насиженное, теплое место. Размоченные в кипятке сухари были моей чуть ли не единственной пищей. Когда пароход приставал к берегу, можно было купить вареную картошку или даже соленую рыбу. Ближе к югу и соленые огурцы, которых я не видел уже пять лет. Но все это было мне не по карману. Оставалось лишь глотать слюнки.
До Красноярска оставалось еще несколько дней пути, когда мы нагнали «Иосифа Сталина» - такой же пароход, как наш. Он покинул Игарку дня на три раньше, но сел на мель. Всех пассажиров перевели на наше судно. Я встретил такую же возвращавшуюся в Латвию молодежь. Были и женщины, которым каким-то образом удалось подкупить или обмануть коменданта. Почти все они очень скоро получили сроки за побег и пробыли в тюрьме или в лагере до самой смерти Сталина. Но не все дождались этого дня.
В Красноярске первым делом отправились на железнодорожный вокзал. То, что мы там увидели, повергло нас мало сказать в уныние. Все станционные помещения, площадь и ближайшие к вокзалу улицы были запружены тысячами потенциальных пассажиров, которые ждали своей очереди не то что неделями - месяцами.
Мы, пять-шесть латышей, приткнулись возле то ли русских родственников, то ли
знакомых из Игарки. И хотя спали мы в уголке на полу, хозяйке надо было платить,
как за квартиру. На рынке буханка хлеба стоила семьдесят-восемьдесят рублей (за
бутылку спирта просили шестьдесят). Хлебных карточек у нас не было. Покинув
постоянное место жительства, мы утратили право на них. А на рынке можно было
купить все. И вокруг шныряли воры и жулики. Впервые я увидел, как играют на три
карты, увидел наперсточников и т.п. Видел, как у людей за считанные секунды
выманивают тысячи. Я смотрел на эти чудеса, открыв рот.
Дни шли за днями, но купить билет не было никакой надежды. Каждый день надо
было платить за ночлежку, что-то надо было есть, а денег оставалось все меньше.
Я продал отцовский смокинг. Сохранился он благодаря тому, что ни в Куличках, ни
в Плахино, ни в других русских селах нужды в смокингах и фраках не было. Не
самому же ловить рыбу в смокинге - слишком уж потешно. Правда, приходилось
видеть кое-что и поуморительней. А как одевались наши дамы! Жаль, что никогда
ни в одном кинофильме этого не покажут.
Узнали, что в крупнейшем городском «Гастрономе» (это название продуктового магазина мы впервые услышали именно в Красноярске) кассиршей работает какая-то еврейка из Латвии, которая может достать билеты на поезд. До Риги билет стоил триста шестьдесят рублей. Я заплатил девятьсот и остался с двумя «червонцами», т.е. с двадцатью рублями. Не помню, о чем я тогда думал, на какое чудо надеялся, садясь в вагон. Мне предстояло провести в пути десять дней, а то и две недели. Впереди меня ждал голод. Но разве был другой выход? Не было.
Я ехал один. Кто-то из нашей компании уже уехал, другие остались ждать билет. Проводить меня пришла Расма. Они с сестрой уезжали на следующий день. Мы стояли в тамбуре. Мимо спешили люди с чемоданами и тюками. Насколько мне помнится, места в общих вагонах не имели нумерации, а если и имели, то это была чистая формальность - кто первый пришел, тот и занял лучшие места. Я свой мешок забросил на одну из верхних полок. На «третий этаж».
С шумом в вагон вошла целая семья. Мать, этакая бабулька, сын с женой и маленьким мальчиком и младший сын лет пятнадцати. Ехали они в Кишинев, откуда эвакуировались в Красноярск, когда началась война. Когда бабулька проходила мимо меня, из ее корзины прямо к моим ногам вывалился бумажный сверток. Я инстинктивно придавил сверток сапогом. Вещей у семьи было много. Все по нескольку раз бегали туда и обратно. Старушенция, как челнок, сновала мимо меня с многочисленными узлами, но пропажи свертка не заметила. А мне он жег подошву. Расма вышла, поезд тронулся. Я поднял свою «находку» и зашел в туалет. В газетном свертке оказались деньги. Не помню, сколько, но мне хватило, чтобы во время поездки не умереть с голоду.
Пока я в туалете разглядывал свою находку, которую вернее было бы назвать добычей, и сражался с совестью, жертвы моей подлости резали на столике краковскую колбасу и мазали куски булки толстым слоем масла. Малыш, румяные щеки которого виднелись из-за спины, поедал яблоко величиной со свою голову. Такие яблоки из Алма-Аты на базаре стоили десять, пятнадцать рублей штука. Моя совесть, которая в тиши туалета уже начала подавать голос, при виде этого притихла. Через некоторое время старая дама подняла шум - у нее украли деньги и вор должен признаться по-хорошему. Я лежал на верхней полке и боролся уже не со своей совестью, а с аппетитом, разыгравшимся от запахов колбасы и хлеба.
Наутро, проснувшись, я снова прислушался к тому, что скажет моя совесть. Но она тут же затихла, увидев, как ограбленная мною семья поедает купленный на станции у местных женщин варенец - томленое в печи молоко с аппетитной коричневой пенкой.
На каждой станции местные торговали чем-нибудь вкусным: пирогами с разной начинкой, вареной картошкой и морковкой, солеными, до головокружения пахнувшими чесноком грибами, тем же варенцом в небольших глиняных плошках и другими невиданными лакомствами. Я почти ничего не мог себе позволить. Добыча моя оказалась невелика, но и за нее совесть меня иногда корила.
Поезд вез меня домой. Колеса стучали - в Лат-ви-ю, в Лат- ви-ю... Мимо окон проносились русские города и деревни, так же, как в 1941 году. Словно бы пленку раскручивали обратно.
Ехал в нашем вагоне и «заяц». Все пассажиры прятали его от контролеров. Когда в вагон заходил контроль, он перебирался под полками через весь вагон и прятался за тюками и корзинами. Я, имея на руках такой «документ», не мог рисковать и ехать без билета. Если бы меня поймали, не видеть бы мне Латвию. Мне везло. Предъявить документы попросили всего один раз, когда я спустился по трапу парохода в Красноярске. Душа моя в тот момент ушла в пятки. Но все кончилось благополучно. В Красноярске к моей справке из колхоза добавилась справка, что я прошел санобработку в бане. Без такого документа в те времена в поезд не пускали. Во всяком случае, таких сомнительных с виду субъектов, каким был я.
Дней через десять поезд привез меня в Москву.
«Москва! Как много в этом звуке...» - сказал когда-то русский поэт. Во мне это слово никаких эмоций не вызвало. Это не столица моей Родины, кто бы и как бы не пытался это доказать.
Где-то этом в городе жили брат моей мамы и мои двоюродные сестры. Я знал, что у мамы в России есть братья, сестры и мать и когда-то мама с ними даже переписывалась, но переписка оборвалась в середине тридцатых годов. Единственным связанным с Россией воспоминанием из раннего детства было полученное мамой известие о смерти ее сестры Галины. Было это перед каким-то праздником. Мама, держа в руках только что полученное письмо, склонилась над миской, и крупные слезы капали прямо в тесто. Связь восстановилась в пятидесятые годы - но только с жившей в Ташкенте бабушкой. Остальные боялись. Впоследствии мы узнали, что и их до войны трясли в чека из-за сестры, жившей в буржуазной Латвии. Но тогда, в 1947 году, я не знал даже, где эти родственники, да если бы и знал, болтаться по Москве с моими документами было не очень разумно. Да и нужен я был этим родственникам со своей биографией, «как зайцу стоп-сигнал».
От пребывания в Москве осталось в памяти несколько эпизодов. Занял очередь,
чтобы перерегистрировать билет. Передо мной стояла не одна сотня человек, и я
отправился осматривать город. Прокатился в метро. После проведенных в тундре и
тайге лет, после недели в пыльном Красноярске Москва ослепляла, кружила голову.
А сказочное метро! Вспомнился слышанный в Плахино случай о том, как до войны
небольшая группа колхозников поехала на знаменитую сельскохозяйственную
выставку в Москву, и одному из группы дверьми вагона прищемило в метро голову. В
окрестностях Игарки еще долгие годы смеялись над этим случаем.
Рядом с вокзалом был большой гастрономический магазин. Впервые за долгие годы
увидел шоколад. Цена была фантастическая. Оставалось сглотнуть слюни.
Хотелось есть, и я зашел в привокзальный ресторан. Сел возле самых дверей. Не помню, как произошло знакомство, но один из официантов оказался латыш. Он накормил меня и, если память мне не изменяет, денег не взял. Подумал я, что и русские эмигранты в парижских и берлинских ресторанах вот так же работают официантами. Вероятно, не один латышский красный эмигрант работал в московских ресторанах. Возможно, только на такой работе латыши в России и могли уцелеть? Тех, кто служил русским в армии или в других государственных учреждениях, ликвидировали еще до войны, как бы усердно они не служили, какие бы высокие должности не занимали в новой российской империи.
В очереди на перерегистрацию со мной едва не случилась неприятность: стоявшему впереди дядечке показалось, что я собираюсь залезть к нему в карман. Очевидно, вид у меня был такой, что подумать можно было все что угодно. Мужик стал звать милицию. И я дал деру. Не хватало еще встречи с милицией! Подождал, пока нервный дядечка не прокомпостировал билет, и снова встал в очередь. Тем не менее, в тот же вечер я уже ехал в Ригу.
В вагоне многие говорили по-латышски. Ехала группа детей в сопровождении молодого человека. В тамбуре, куда мы оба вышли покурить, разговорились. Собеседник мой был младше меня, хорошо одет, причесан так, словно его теленок облизал, напомажен, типичный комсомольский функционер. Он сопровождал пионеров, которые возвращались то ли из лагеря, то ли из эвакуации, сейчас уже не помню. Юноша спросил, что я собираюсь делать в Латвии, не хочу ли работать с детьми в качестве пионервожатого. Очевидно, он полагал, что я возвращаюсь из эвакуации. Спросил, комсомолец ли я. Когда я сказал, что возвращаюсь из ссылки, он прекратил меня расспрашивать и уже избегал меня как прокаженного. И я понял, что в Латвии никто меня с музыкой и цветами встречать не собирается.
Не только взрослые и молодежь, даже латышские дети делились на «чистых» и «нечистых». На тех, кто вернулся из эвакуации, и на тех, кто вернулся из ссылки. Но и там и там были сироты. У одних отцы погибли на войне, у других - в русских лагерях смерти.
Помнит ли кто-то тех людей, кто, рискуя собственной свободой и будущим, заботился о высланных сиротах, кто организовал их возвращение, пекся об их дальнейшей судьбе? Помнит ли кто-то директора детского дома Делиньша, который серьезно пострадал из-за опекаемых им детей? Делиньш и в застенках чека успел посидеть и до конца жизни носил позорное клеймо защитника врагов народа.
В Ригу мы прибыли рано утром. Не помню своих ощущений в тот момент, когда оказался на перроне Рижского вокзала. Об этом мгновении думали, говорили, мечтали более шести лет. И вот наконец мечта превратилась в действительность.
Моя сестра работала в 1-й городской больнице на улице Айзсаргу (Бруниниеку), в то время уже Сарканармияс, и там же жила. Я понятия не имел, как туда добраться. О том, что я еду в Латвию, мама сестре написала, но как долго продлится мое путешествие, знал только Господь Бог, поэтому на вокзал сестра не пришла. На последнюю десятку, оставшуюся от «находки», такси доставило меня к дому сестры. На углу улиц Бруниниеку и Кр. Валдемара в то время находилась станция скорой помощи. В одной из квартир, в мансарде, и жила сестра со своим трехлетним сыном. (Дом этот снесли.)
Так началась моя жизнь в Риге. На следующий же день я пошел в Главное управление
милиции, рассказал, кто я и откуда, и попросил выдать мне паспорт. Единственным
моим документом, как я уже говорил, была справка об увольнении из колхоза (и еще
справка о том, что я прошел в Красноярске через санпропускник).
Мне казалось, что все очень просто. Я не сомневался, что скоро получу паспорт,
пропишусь у сестры, устроюсь на работу. Пойду в вечернюю школу, потом напишу в
Москву и добьюсь освобождения матери. Война ведь кончилась, и ни я, ни мать ни в
чем не провинились. Наивный, глупый мальчишка!
Прошло несколько дней, неделя, но милиция особого «рвения» не проявляла. Я ждал. Пожил несколько дней в Риге, переговорил кое с кем, кое-что узнал, и постепенно стало ясно, что так просто ничего не происходит. Очень скоро понял, что прямой путь не всегда самый короткий.
Поехал в родной Екабпилс. Не помню своих ощущений, когда приехал в Ригу, зато помню, какие чувства охватили меня, когда я вышел из поезда на станции Крустпилс. Приехал я вечером, было уже темно. Вернулся в свой родной город тайком, как вор, как преступник, без документов. Сегодня это, вероятно, многим трудно понять. Но было беспокойное послевоенное время, когда ничего не стоило оказаться за решеткой. Это я понял еще в Риге, после всего услышанного в те дни, прочитанного, почувствовал во время первой же встречи с представителями «внутренних органов».
Первые неприятности настигли меня у калитки, ведущей в дом бывшего директора банка Скуйскубрса. Когда я начал открывать засов, какой-то мужчина, следовавший за мной по пятам, схватил меня за воротник. Я вырвался, мелькнула мысль расправиться с ним, но со стыдом я вынужден был отступить. Мой «статус» не позволял мне ввязываться ни в какие истории. Само мое появление в Екабпилсе было нарушением, так как я дал подписку о невыезде из Риги. Мужчина был сильно навеселе и наступал на меня с руганью, обзывая меня вором и бандитом. Я пытался ему втолковать, что приехал навестить крестную, госпожу Скуйскубру. К счастью, на шум вышли сами Скуйскубрсы и успокоили мужчину, который оказался одним из жильцов их дома.
За разговорами просидели всю ночь. Я рассказывал о нашей жизни в Сибири, хозяева о том, что произошло за эти годы в Екабпилсе.
Утром я вышел на берег Даугавы. В лучах появившегося солнца блестели купола православной церкви, так же, как утром 14 июня 1941 года. Вдали белел песчаный пляж, куда мы с отцом каждое утро ходили купаться. Все выглядело почти как прежде. Только из воды торчала ферма взорванного моста. Деревья в парках были почти голые. Красивый парк Хикштейна еще в прошлом веке посадил некий пивовар, немец Хикштейн. Рядом парк Кена. Его посадил владелец ликерного завода Кен, тоже немец. Оба парка соединяла речка, через которую было перекинуто несколько красивых мостиков. Во времена моего детства здесь устраивались балы, различные мероприятия, красивые детские праздники. Страшные немецкие бароны оставили после себя парки и прекрасные имения. А какой след оставили русские «красные бароны»? Никому не нужные заводы со своей культурой «мата»? Что еще?
Сколько воспоминаний было связано с Даугавой! И во всех присутствовал отец. Плаванье, походы по берегам реки. Вспомнилась поездка на плоту из Екабпилса в Плявиняс. Мне тогда было лет семь или восемь. Веселую поездку организовал лесопромышленник Штейнбергс, в ней участвовала чуть ли не вся екабпилсская «элита». Это был настоящий плот, возможно, длиной метров под сто, только связан он был не из круглых бревен, а из четырех-пятиметровых брусов. На корме, сколоченный из таких же брусов, стоял стол, заставленный едой и бутылками пива. Кажется, это было на Лиго, потому что плот был украшен венками и аиром. Отец повел меня на нос, где мужчины орудо-вали «дрыгалками» - большими, тесаными из бревен веслами. И мы с отцом ухватились за огромные весла. В тех местах Даугава тогда была порожистой: пороги Приедулайс, Грубе, Разбайниекс, Мазайс Разбайниекс и другие, о которые разбился не один плот. Недаром все плоты приставали в Екабпилсе, чтобы перед порогами «заправиться» в чайной моего деда или в «Белевии» Озолиньша (очевидно, от французского „Belle vue" - красивый вид. С этого места открывалась действительно красивая панорама Даугавы). Нередко неопытный плотовщик подряжал в Екабпилсе лоцмана, чтобы он провел плоты через пороги.
Перед порогами все бутылки со стола убрали, так как короткие звенья плота раскачивались под таким углом, что даже люди не могли устоять на ногах.
Только с реки открывалась вся красота берегов Даугавы и дикая красота порогов. Отец почти все время был со мной, рассказывал о местах, мимо которых мы проплывали. Сказал, что мальчишкой плавал здесь на лодке. Изредка он подходил к столу, где весело разговаривали и пели.
С благодарностью должен сказать, что отец вообще уделял мне много свободного времени. Еще недавно один из моих уже малочисленных друзей детства вспоминал, как тогда он и его братья (их было трое) мне завидовали.
Надо сказать, что воздержание для отца не было неким «самопожертвованием», потому что выпивать он не любил. Насколько помню, отца даже под хмельком я не видел ни разу. Видно, насмотрелся за свою жизнь на своего пьяного отца.
В Плявиняс мы вышли и отправились навестить Яунсудрабиньша, а плот поплыл дальше в Ригу.
Побывал у знакомых. Старался посетить и поблагодарить тех, чья помощь помогла мне вернуться, кто пожертвовал деньги. Но это было непросто, да и мне посоветовали не очень стараться. Кое-кто давал деньги тайком и, возможно, не хочет огласки.
Я был уже взрослый, но здесь, в Екабпилсе, откуда меня увезли мальчишкой, я снова почувствовал себя таким же, и было странно, когда друг отца, старый, мудрый врач Пусбарниекс, к которому я зашел, спросил меня, что я думаю о нынешнем положении в Латвии и надолго ли это. Вспомнились долгие разговоры отца и Пусбарниекса о политике.
Многих екабпилсчан война раскидала по всему свету. Многие погибли, о многих вообще не было никаких сведений. Не было в Екабпилсе почти ни одного еврея. Не было старого часового мастера Фрейдуса, в магазинчике которого, пока отец и хозяин говорили о политике, я рассматривал сотни самых разных часов, которыми были увешаны стены. И все они замечательно тикали, каждые на свой лад. А когда все настенные и настольные, и большие напольные часы, в которые мне разрешалось даже залезть, одновременно начинали бить, играть, звонить, это было что-то необыкновенное. Не было и второго Фрейдуса, аптекаря. Оба брата на мосту раскусили ампулы с цианистым калием, когда немцы гнали их в сторону Крустпилса - на расстрел. Большинство евреев уничтожили немцы. Немало еврейских семей оказались в Сибири. Друк, Канн, Ландман, все с маленькими детьми.
Екабпилс без евреев уже не был городом моего детства.
Почти всех моих одноклассников забрали в немецкую армию. Ни о ком я ничего не знал. В какое же проклятое время мы родились!
Дом, в котором я вырос, построенный еще моим дедом, стоял по-прежнему. Обошел вокруг, вошел во двор. Все вокруг такое маленькое, будто съежилось. В пристройку, где мы жили и которую, насколько помнится из детства, достраивал отец, вернувшись с фронта, войти я не смог. Двери были на замке. Так странно было на душе. Ведь прошло не так уж много времени. Всего шесть с половиной лет, а кажется - целая вечность. Одна жизнь закончилась, началась вторая. Совсем другая.
Много ли найдется сегодня в Латвии семей, где сохранилась унаследованная от
предков старая Библия или Книга песен, в которой на последней, пустой странице
или просто на вложенном пожелтевшем листке бумаги была бы записана родословная,
нарисовано родословное древо? И где теперь эти Библии, эти Книги песен? Где
ветви, где листья родословного древа после всего, что произошло с нашим
народом? А если тебя еще в детстве разлучили с отцом и всеми, кто мог рассказать
тебе о твоих предках, о каком родословном древе может идти речь? Лишь крохи
воспоминаний, сохранившиеся из услышанного в детстве.
Когда осенью 1947 года я вернулся в Латвию, не только моих родственников
раскидало по свету, но и кресты на могилах предков были сломаны. (И кто не
поленился проделать такую нелегкую работу?) На одном было выгравировано «Семья
Кна- гис», на другом - «Семья Эсавс». Помнилось, что в могиле семьи Кнагис лежат
братья и сестры моего отца, умершие в раннем детстве, а может быть, и более
ранние предки. Мой дед Давис Кнагис утонул в Тамбовской губернии, куда попал
беженцем. В реке «Красивая Меча». Спустя двадцать пять лет где-то в Германии
умерла моя бабушка, тоже беженка, Минна Кнагис, урожденная Эсава. Кто из
бабушкиной родни лежит под крестом с выгравированной странной библейской
фамилией, я не знаю и, очевидно, никогда уже не узнаю. Знаю только, что бабушка
была из Селии. Вспоминаются связанные с бабушкиными родственниками названия
местечек - Селпилс, Серене, Дигная. Но следов мне не удалось найти ни в каких
архивах. Из всех краев Латвии Селия, кажется, больше всех пострадала в войнах.
Войны уничтожили все церкви и волостные дома со всеми документами. А что не
уничтожили войны, то уничтожила победившая в последней войне власть и система.
Ей не нужно было старое, прошлое. Какие родословные, какие такие древа?
Родовые корни Кнагисов мне в последние годы удалось «раскопать» вплоть до конца 18 века. В начале 19 века крестьянам Видземе начали давать фамилии, и все мои предки приняли имя Кнагис (Кнагге). Первым был дед моего деда, хозяин хутора Циебалду Скуиенского поместья Цесисского уезда Янис Кнагис.
Когда и почему мой дед обосновался в Екабпилсе, неизвестно. Знаю только, что дом он построил в конце 19 века. Дед был сапожник и, похоже, очень удачливый, так как держал подмастерьев. Услышанная еще в раннем детстве семейная легенда гласит, что один из новых рижских латышских богатеев, которые начали появляться в те времена, одолжил деду порядочную сумму, чтобы тот мог начать более крупное и доходное «предприятие». Дал под честное слово и ничтожные проценты. Сказал, что знает деда как человека порядочного и верит, что деньги свои вернет. Такие случаи в те времена были не редкость. Очевидно, новые латышские богачи, которых тогда было немного, думали не только о своем благополучии, а, встав на ноги, старались помочь своим соотечественникам, своему народу. А может быть, они еще не читали Карла Маркса и не знали, каков настоящий буржуй, не знали, каким должен быть «звериный оскал» капитализма.
Дед построил дом и заезжий двор в очень выгодном месте - возле рыночной площади. Метрах в ста текла Даугава. Здесь приставали все плоты, а в те времена, может быть, и струги, чтобы владельцы перед порогами могли передохнуть и «подправиться». Историки утверждают, что в этом месте находился порт герцога Екаба. Железная дорога Рига-Москва только-только открылась, и гужевой транспорт по-прежнему широко использовался. Предприятие процветало. Во дворе были конюшни, в мансарде комнаты, сдававшиеся на ночлег, на первом этаже большая чайная. Не сравнить, конечно, с «Белевией» соседа Озолиньша, с его знаменитыми «хорошо откормленными раками» (так гласила вывеска). Основными посетителями деда были крестьяне, плотовщики и извозчики. Извозчичьи повозки, единственный вид транспорта в городе, стояли перед нашим домом, когда я еще был ребенком. Дед выпивал основательно, но только в компании. Когда появилос желание выпить, выходил на крыльцо чайной. Извозчики без приглашения знали, что пора к старому Давису на грог.
Бабушка рассказывала, что в России, во время беженства, дед в подпитии не раз плакал и сожалел, что из-за пьянства обокрал своих сыновей. Это не так. Своему деду я должен быть благодарен за благополучную старость, которую не смогла бы обеспечить мне работа, порой ответственная и трудная на протяжении всей моей жизни.
Отец рано пошел в школу, и существует анекдот, связанный с его учебой. Кто-то подарил ему гармонь, и мальчик, тогда еще первоклассник, так увлекся музыкой, что забросил все другие занятия. Учитель пришел пожаловаться деду. Дед рассердился, сломал гармонь и больше отца в школу не пустил, заставив работать - чистить лошадей и конюшни. С большим трудом бабушке и учителям удалось уговорить деда разрешить одаренному мальчику продолжать учебу.
Отец закончил Екабпилсскую торговую школу, в которой в свое время учились многие популярные впоследствии люди. Художники Ото и Угис Скулме, проф. Куга, проф. Паул Страдыньш, писатель Александр Грин, полковник Дардзанс и др. Вряд ли есть в Латвии много учебных заведений, о которых их бывшие выпускники вспоминали бы с такой теплотой и благодарностью. И учителей. Особенно основателя и долголетнего директора школы Лудиса Берзиньша, педагога и общественного деятеля, выдающуюся личность начала века и послевоенной свободной Латвии. На круглый юбилей школы в середине тридцатых годов в Екабпилс съехались многие знаменитые в Латвии люди. Мой отец был одним из главных организаторов этого юбилея.
Дед надеялся, что старший сын - мой отец - после окончания школы продолжит начатое им дело, но отец с десятью рублями в кармане уехал в Москву и нанялся в контору немецкой фирмы «РпейпсН Вауег», где работал его друг и соученик Петерис Лапиньш. Оба поступили в знаменитый тогда престижный университет Шанявского. Когда-то отец много рассказывал о годах, проведенных в Москве. В университете Шанявского и в других высших учебных заведениях Москвы, Петербурга и Киева в то время училось немало латышей, многие из них впоследствии сыграли видную роль в создании Латвийского государства. Идеи независимости Латвии носились в воздухе, которым дышали латышские студенческие организации России, задолго до войны.
Началась Первая мировая война. Отец начал войну вольноопределяющимся. Был тогда в русской армии (и не только; стоит вспомнить приключения Швейка) так институт так называемых вольно определяющихся. Это были образованные люди, они служили рядовыми но имели некоторые офицерские привилегии. Питались вместе с офицерами, имели право посещать офицерские клубы, их не принято было бить, как простых солдат. Обычно вольноопределяющихся вскоре после призыва направляли в военные училища. Когда были сформированы стрелковые батальоны, отец подал прошение зачислить его в один из батальонов, но его откомандировали в Гатчинскую школу прапорщиков. После окончания учебы он был назначен ротным командиром в латышский резервный стрелковый полк.
Когда в России началась большая «заваруха и неразбериха» (исчерпывающая характеристика, данная отцом актера Улдиса Думписа), отец, как и многие стрелки, отправился на поиски своих родителей-беженцев. Они в это время находились в Тамбовской губернии. Родителей он нашел, но там его мобилизовали большевики. Гражданская война (латыши называли ее братской войной) разметала стрелков по просторам России, и где и на чьей стороне кому быть, зависело в большинстве своем от прихоти чужой власти, а не от желания самих стрелков, как сейчас кое-кто пытается изобразить. И били они тех, кого надо было бить. За Пулеметную горку, за Остров смерти, за Юглу, за предательство. И за 1905 год, за казацкие нагайки и драгунские пули, и за еще более старые времена. Странно было бы ожидать, что латышские стрелки встанут на защиту Российской монархии и белых генералов. За что? Да и монархии уже не было. И какой политической дальнозоркости можно было ждать от латышских парней? Не царь, не Керенский, а правительство большевиков обещало стрелкам свободу и независимость.
Воевал отец где-то на юге России. «Освобождал» от Врангеля Крым, потом гнал по степям банды Махно, пока сам вместе с двумя десятками стрелков не попал в плен к Махно. Прикомандированный к отцу комиссар исчез на отцовской лошади. Махно в то время колебался - примкнуть к белым или к красным и, возможно, поэтому пленных сразу не расстреляли. Пока бандиты пьянствовали, удалось бежать. Но почти все остались в степи. Замерзли. На отца и еще нескольких стрелков неожиданно наткнулась группа красных всадников. После этого отец долго лежал в госпитальном тифозном бараке, откуда в армию уже не вернулся, а направился к семье, а потом в Латвию. Между боями отец успел влюбиться и привез в Латвию жену - мою будущую мать и полуторагодовалую сестренку. Был последний шанс вернуться. Шел 1921 год.
Когда-то мы не сомневались, что старые латышские стрелки сражались за свободу Латвии, так как идея независимости страны витала в воздухе с первых же дней формирования стрелковых батальонов. После первых же блестящих побед стрелков европейские газеты писали: «Родилось новое государство!» Не было бы латышских стрелков, не было бы Латвийского государства. Когда-то это было ясно каждому мальчишке. Как сказал старый стрелок Эвалд Валтерс: «Мы были не красные стрелки, мы были латышские стрелки».
Мне не стыдно, что мой отец воевал в легендарных латышских стрелковых полках, солдаты которых, закатав рукава и навощив сапоги, гнали по российским степям полки Врангеля и Деникина, банды Махно. Они свою работу сделали и плату за это - свободу Латвии - получили. И не их вина, что получилось из этой революции одно дерьмо (как, впрочем, почти от любой революции). Это уже была проблема самих русских, а не проблема стрелков. Стрелки вернулись на родину строить Латвийское государство, за свободу которого они тоже воевали. За свободу Латвии сражались не только в Латвии, но и под Кромами и Перекопом, в боях на просторах всей России. Недаром в свое время ходил анекдот: стрелки, возвратившиеся из России, задали вопрос: «Сколько Латвии земли надо? Где проводить границу? До Пскова хватит?» Большинство возвратилось, но многие остались. Кто-то во имя «идеи», другие не желая расставаться с выслуженными шпалами и ромбами на воротнике френчей (до Второй мировой и в первые годы войны степени отличия офицеров Красной армии обозначались геометрическими фигурами - треугольниками, квадратами, прямоугольниками и ромбами). Но настало время, и вместе с геометрическими фигурами полетели головы. Не станем их судить, но и «святых мучеников» делать из них не станем. Все надо делать вовремя. И вовремя возвращаться на родину.
За что еще недавно латышских стрелков превозносили в России, за то же их теперь и поносят. Понятно, когда это делают русские: они всегда во всех своих несчастьях обвиняли другие народы, но непонятно и необъяснимо негативное отношение некоторых латышей к старым латышским стрелкам - к «первой любви» народа. Самое парадоксальное заключается в том, что именно те, кто в последней войне воевал в чужой армии, обвиняют стрелков в том, что они, мол, воевали не на той стороне. «Подвиги» чекистов тоже неправомерно приписывают им. Стрелки составляли лишь небольшую часть латышей, которые находились тогда в России. Большинство большевистских агитаторов в соединениях стрелков были не из стрелков, а из других слоев населения. Они-то и становились позже комиссарами и чекистами. Уж это историкам надлежит знать.
Разными путями возвращались старые стрелки в Латвию. И через немецкие лагеря для военнопленных, и через Францию, и вокруг света через три океана, но большинство - через Перекоп, Кромы и другие лишенные смысла сражения на чужой, враждебной земле России. Но они вернулись, чтобы строить свою, независимую Латвию. И мой отец тоже .
Во время войны в наш дом попал снаряд, и отец взялся за его восстановление. Конюшни сгорели, да и не нужны они были больше, так как он не собирался продолжать дело своего отца. Отец устроился на работу в Екабпилсское отделение Государственного банка.
Жизнь в послевоенной Латвии была небезопасной. Полиция не справлялась с бандитами и принялась вооружать знакомых, надежных крестьян. Стихийно стали возникать первые отряды и отделения самообороны. В уголовном деле отца в качестве главного преступления была названа организация им Екабпилс- ского отделения айзсаргов. Отец был человеком активным, к тому же бывший офицер, да и времена были такие, что каждый считал своим долгом вести общественную работу. Рядом с отцом всегда была и мама. Говорить по-латышски она научилась за два года. Уроки она брала у знаменитого в то время языковеда, учителя Екабпилсской гимназии профессора Бруниниекса. Насколько мне помнится из раннего детства, она всегда говорила без акцента, на хорошем латышском языке (и это не только мое субъективное мнение). Моя мама, русская, возобновила утерянные связи со всеми нашими родственниками, пользовалась их уважением и любовью до самого конца. Остается только сожалеть, что слишком поздно я начал интересоваться своей родословной, когда и мама, которая знала много, почти все позабыла. Ее предки были крепостными какого-то тульского или тамбовского помещика. Основателя рода помещик привез из Польши, где купил его у какого-то шляхтича, у которого гостил. На охоте помещику понравился доезжачий. В России польский псарь получил фамилию Поляков.
Мамин отец служил управляющим на солодовой фабрике У богатого помещика. Произвел на свет десятерых детей (мама по старшинству была вторая). После революции, в смутные времена, потеряв работу, бросил жену и детей, сказав: «Оставайся со своими щенками...». Бабушка Дарья, схватив «щенков в зубы», подалась в Ташкент, где жизнь была легче. Мама в это время находилась уже в Латвии. Бабушка Дарья одна вырастила детей и дала им образование. Всем шестерым. Тем, кому посчастливилось выжить.
А теперь снова вернусь в осень 1947 года.
Недалеко от Екабпилса жили мои дальние родственники Бруновскисы. В «буржуйские» времена своей земли у них не было. Землю они арендовали или брали исполу, на половинных началах (до войны этот вид договора был широко распространен). Янис работал бригадиром в только что организованном колхозе.
Теплившаяся в те времена надежда (если кто-то вообще еще надеялся), что колхозники со временем почувствуют себя хозяевами своего колхоза и земли, так и осталась вечной надеждой. Хозяев латвийская земля потеряла. Навсегда?
Младший сын Бруновскисов во время войны нашел гранату, и теперь на всю жизнь был прикован к постели. Маленьких инвалидов в те времена было много. И в Латвии во время войны жить было непросто.
Страшная война закончилась. Но какой бы ужасной ни была война, нанесенный ею
урон был гораздо меньше, чем след, оставленный двумя оккупационными режимами. И
фашизмом, и коммунизмом. И немецким, и русским. А ущерб, нанесенный русскими,
был неизмеримо больше. (Я подчеркиваю - русскими, а не коммунистами. Все надо
называть своими именами. Немецкий народ взрастил фашизм, признал это и несет за
это ответственность. На совести русского народа преступления коммунистов.) Вряд
лив Латвии в то время нашлась хотя бы одна семья, которая не пострадала оттого
или другого режима.
Потерялись и мои родственники. О некоторых вообще не было никаких сведений, о
семье отцовского брата Альберта и о бабушке тоже. Кто-то, как д-р Долиетис,
покинул Латвию на лодках или на пароходах, о них тоже ничего не было известно.
Некоторые были высланы в Сибирь. Саша Гринберге, в хозяйстве которого под
Цесвайне я провел не одно лето, погиб в одном из немецких концентрационных
лагерей. Причины его ареста так и остались неясными. Говорили, что зависть,
которой, к сожалению, всегда страдало немало латышей. И не надо во всем винить
иноплеменников. Немалая часть вины на совести самих латышей. Саша был из богатых
хозяев, много лет был волостным старостой, командовал конной ротой айзеаргов. Не
могло же быть причиной его ареста участие в боях с немцами в составе Цесисской
школьной роты. Немцев не интересовало, чем люди занимались двадцать лет назад.
Только русских интересовало, кто что делал чуть ли не во времена Петра Первого
или Ивана Грозного. Жажда мести, присущая русским, воистину удивительна. И
может быть, поэтому коммунизм расцвел пышным цветом именно в России. Ведь в
основе коммунистической идеологии лежит принцип мести. И зависть.
Поев творога со сметаной, жареной свинины с ржаным деревенским хлебом, попив молока и самогонки, с солидным мешком деревенской снеди я через несколько дней вернулся в Ригу.
Вызова из милиции все еще не было. Я стал беспокоиться. Еще Антон Чехов говорил: «Говорят, нельзя жить без кислорода; какие глупости! Только без денег жить нельзя». Действительно, жить без денег было невозможно. Через несколько дней после моего возвращения была проведена денежная реформа. У нас с сестрой старых денег осталось ровно столько, чтобы купить пачку папирос «Северная Пальмира». Перед отъездом в Латвию, я решил бросить курить. Но в Риге было столько папирос и сигарет разных марок, что после сибирских самокруток захотелось испробовать все, и бросить курить было слишком трудно. Вспомнилось, как однажды на Чумные озера вместо махорки привезли листья табака. И не желтые, обычные, а зеленые. Все мы были заядлые курильщики, но когда нарезали зеленые листья, свернули самокрутки и затянулись, перехватило дыхание. Табак этот курить было невозможно. Мы стали добавлять к нему раскрошенные сухие ветки, кто ивовые, кто осиновые, кто досыпал опилок на треть, кто пополам с табаком. Угощали друг друга и даже давали куреву разные названия. Помню, как однажды на Щучьем старый приемщик рыбы Лукьянов сушил заячьи катышки, поливал их одеколоном и курил. Дрянная привычка - курение. Мне лишь в почтенном возрасте удалось от нее избавиться.
Но речь не о куреве. Не было денег на хлеб. Да и какая- никакая одежда нужна была. Выглядел я как только что вышедший из леса. Каким, впрочем, и был. Постепенно кое-что в моем гардеробе удалось заменить. В Риге жили сестры жены дяди Алберта Шура и Валя. Их отец, протоиерей латышской православной общины Янис Намниекс, погиб в лагерях Свердловской области. Когда в 1941 году за ним пришли, его не было дома, и с целью шантажа арестовали брата жены. Тогда Намниекс явился сам. (Случаев таких было много. Иногда заложников освобождали, но чаще отправляли в Сибирь.) Муж Шуры, учитель Петерис Акотс, поделился со мной одеждой, и я сразу же почувствовал себя увереннее.
Наконец после долгого ожидания я получил вызов из Главного управления милиции. И начались мои хождения по коридорам и кабинетам. Мне надлежало являться в милицию через день, а зачастую и несколько дней подряд. Допрашивали меня несколько следователей. Допросит один, я подпишу протокол, мне приказывают ждать. Сижу в коридоре, в одном конце которого горит тусклая, засиженная мухами лампочка. Час сижу, два, потом вызывают в другой кабинет. Иногда после долгого ожидания отправляют домой, приказывают прийти завтра или через пару дней. Отношение ко мне было неприкрыто враждебное. И даже после того, как мне дали временное удостоверение на три месяца с пометой: «Действительно только в Риге», вызовы в милицию не прекращались. На некоторое время оставили меня в покое, потом им что-то снова взбрело в голову, и снова вызов следовал за вызовом.
Паспорт у меня теперь был, во всяком случае, заменяющая его бумажка. Следовало прописаться. Но прописывали только работающих. А на работу брали только прописанных в Риге. И выхода из этого заколдованного круга не было. И не один я был такой. Таких «аутсайдеров», как бы не нужных обществу, даже вредных лиц, в то время хватало. И в большинстве моего возраста. Парни воевали в легионе, а попавшие в плен к русским отсидели в лагерях и считались неблагонадежными.
Как бы сложилась моя судьба, если бы меня не выслали? Все мои друзья, школьные товарищи (за редким исключением) воевали в немецкой армии. И, скорее всего, я тоже был бы среди них, если бы не оказался в Сибири. Возможно, я без большой радости надел бы немецкий мундир, но уклоняться от призыва в армию не стал бы. И не из особой симпатии к «фрицам», а от злости, за то, что было утрачено и что видел я в первый год русской оккупации. Одного года вполне хватило, чтобы большинство поняло, что от русских хорошего ждать нечего. Антинемецкий синдром, который сидел в каждом латыше с раннего детства, был как бы унаследован с генами предков, заставил почти восемьсот тысяч латышей избрать бегство в годы Первой мировой войны, в 1915 году заставил мальчишек, приписав себе лишние годы, добровольно вступать в стрелковые батальоны, этот синдром сильно поблек в первые же месяцы русской оккупации 1940 года, уступив место ненависти к русским.
Главная тема, главная нить истории, которую нам преподавали в школе, была борьба с немцами. Борьба с крестоносцами, рабский труд на немецких баронов на протяжении почти семи столетий, и в шведские, и в польские, и в русские времена, во все времена под батогом немецкого барона (следует добавить, что батог часто был в руке старосты латыша). Даже революция 1905 года скорее была направлена не столько против царской власти, сколько против доморощенных баронов. В Латвии революция носила скорее национальный, чем социальный характер. (Утверждение это взято не с потолка. Когда я был ребенком, живы были еще и участники, и очевидцы событий 1905 года. В том числе мой отец и его друзья.) Затем была Первая мировая война, бои стрелков с немцами, борьба с отрядами Бермондта, в которых в основном сражались немцы. О том, сколько бед принесли нам русские, о борьбе с ними, мы знали намного меньше.
Кто сегодня скажет, какова была пропорция антинемецких и антирусских взглядов в сознании индивида и всего общества в разные времена? Кто знает, возможно, если бы в народе за столетия накопилась бы такая же антипатия к русским, как к немцам, 1940 год был бы совсем иным. Но ненависти к русским не было. Ненависть вспыхнула в ответ на террор. Вначале были ухмылки, презрение, потом страх и ненависть. Страх всегда порождает ненависть. И вечный враг - немец - для многих стал единственной надеждой, единственной силой, которая может спасти от красного ужаса. Похоже, для большинства. И для моей семьи тоже.
Но не все восприняли вторжение русских одинаково. Не все на своей шкуре испытали «прелести» коммунизма. Не каждому отец мог рассказать то, что рассказывал мне мой отец. Да, часть ушла с русскими и воевала в русской армии. Кое-кто даже добровольно (что означает «добровольно» у русских, всем нам очень хорошо известно).
Послевоенная Латвии 1947 года, в которую я вернулся (на короткое время), была Латвией легионеров, хотя возвратились лишь немногие: одни продолжали сидеть в русских лагерях, другие остались на западе, многие лежали в Волховских болотах или тут же в Курземе, а то и где-то под белым березовым крестом. Но в памяти людей живы были еще отзвуки войны и слава легионеров. Я завидовал ребятам, которые воевали против русских: они, по крайней мере, что-то делали для Латвии (в то время никто в этом не сомневался). Тех, кто воевал в русской армии, почти не замечали, в народе они не пользовались популярностью, да этим никто особенно и не кичился, во всяком случае, в первые послевоенные годы. Симпатии большинства народа были на стороне легионеров. Легионеры были «большой любовью народа», как когда-то старые латышские стрелки. И, вероятно, не имело значения, воевали они вместе с немцами или турками, готтентотами или папуасами - главное, они воевали против русских. Симпатии эти сохранились и по сей день. Слишком большое зло причинила Латвии Российская империя. Несравнимо большее, чем Германия. А разве последние пятьдесят лет под красным сапогом не были гораздо страшнее тех вечно склоняемых (и довольно проблематичных) семи веков немецкого господства?
Какой-то эстонский (или литовский) писатель сказал - единственно, что хорошо умеют латыши, это воевать. От себя добавлю - если воевать не с кем, то между собой... Была ли последняя война последней? Дай Бог! Но в последней войне это было неизбежно. И только Господь Бог знает, как сложилась бы наша судьба, если бы не было альтернативы латышским советским полкам - латышского легиона в немецкой армии. Раз были одни, должны были быть и другие. Иначе вряд ли мы сегодня освободились бы от русских.
Минтаутс, сын друга моего отца, упомянутого уже Петериса Лапиньша, тоже служил в легионе и только что вернулся из русского плена. Семья Лапиньшей в то тяжелое время очень мне помогла. У них в Межапарке я жил неделями. В доме была большая библиотека, и я читал ночи напролет, чтобы наверстать упущенное. На чердаке были спрятаны газеты и журналы немецких времен, там же нашел я и «Страшный год». (Мне тогда бросилась в глаза антисемитская тенденциозность книги.) Минтаутс тоже столкнулся с проблемой трудоустройства, но он уже несколько месяцев работал в Тресте ГУК (газа, водопровода и канализации), куда и мне удалось устроиться.
В отделе кадров треста работала Валентина Клачкова. Она была одна из тех порядочных русских, каких в России мне довелось встретить немало и гораздо реже в Латвии. Поэтому о русском народе у нас, старых «сибиряков», совсем иное представление, чем у тех, кто нежил в России. Они о русском народе судят по тем искателям счастья, кому безразлично, где жить, только бы побольше заработать, или по тем, для кого Латвия осталась российской губернией, которую они отвоевали, к тому же они твердо убеждены, что только после их появления латыши «спустились с деревьев и вылезли из пещер». Валентина была из старых русских, предки которых жили в Латвии сотни лет. Она была членом коммунистической партии еще с довоенных времен. Ее муж Михаил Клачков был членом Латвийского отделения Коминтерна, в годы Первой Латвийской республики сидел в тюрьме, в 1934 году каким-то образом попал в Россию, в 1937 году был арестован, как почти все коминтерновцы, и отправлен на Колыму добывать золото. Все это, конечно, стало известно намного позже, а тогда, в 1947 году, Валентина знала о муже только то, что он арестован как шпион, и это сильно пошатнуло ее коммунистические убеждения. О Валентине рассказывали, что во время войны она помогала русским военнопленным, а после войны - тем, кто пострадал от советской власти и кого продолжали терроризировать. Валентина устроила на работу многих бывших легионеров и вышедших из тюрем и лагерей, кого не прописывали, а значит, не брали на работу. Многим она помогла разорвать «заколдованный круг». И мне тоже. Мне в очередной раз повезло. В очередной раз в критический момент моей жизни я встретил хорошего человека.
Рисковала ли Валентина? Безусловно. Учитывая статус ее мужа, по ней, как она говорила, «давно тюрьма плачет». То, что она все еще находилась на свободе, объяснить можно было двумя причинами. Во-первых, у Валентины было очень много друзей среди старых коммунистов, имевших вес, во-вторых, большинство друзей, как и сама Валентина, были русские. В России она, скорее всего, давно бы уже сидела в лагере, а в Латвии русские были в привилегированном положении, находившиеся у власти латышские коммунисты и чекисты опасались их трогать - подальше от греха.
Меня приняли в отдел канализационного хозяйства. И стал я так называемым шиндером, а попросту - золотарем. Отдел располагался в здании недалеко от пассажирского порта, там, где городской канал впадает в Даугаву. Называлось тогда это место Казмуйжа. Коллектив был молодой, дружный, жизнерадостный. Почти все с «темным» прошлым, так что только к грязной, третьесортной работе таких и можно было допустить. Послевоенное время в каком-то отношении очень напоминало последние месяцы накануне войны. Беспокойное, насыщенное слухами, сплетнями, рассказами о случаях на войне, туманными надеждами, а значит, интересное. Тем более для меня. Из мира заметенных снегами тундры и тайги, ледяных озер я попал в цивилизованный мир, если таковым можно назвать заполоненную иноплеменниками и собственными люмпенами Ригу.
Работа по сравнению с той, что мне выпадала на долю в Сибири, была сказочно легкой, да еще хорошо оплачиваемой. Правда, грязная, но приходилось мириться и радоваться, что есть хоть такая. Почти все мы считали свою работу временной и не теряли чувство юмора. Немало было курьезных случаев. О некоторых расскажу в порядке «лирического отступления».
Большая часть Старой Риги лежала в развалинах. Водосливные шахты, так называемые гули, или ридзини, были завалены битым кирпичом и прочим мусором. Их надо было чистить, так как во время дождей вода не уходила, и улочки
Риги подтапливало. По Старой Риге ездила телега с громадным ящиком. Кто-нибудь из рабочих специальным черпаком вытаскивал из шахты всю грязь и кидал ее в ящик. Чего только там не было! Однажды выудили телефонный аппарат с трубкой. «Кучер» очистил аппарат от нечистот, поставил его на козлы, поднес к уху трубку и начал громко разговаривать якобы со своим начальством. Вокруг телеги собралась кучка любопытных, с удивлением разглядывая телефонизированную телегу для вывоза нечистот.
Как-то к моему напарнику, Карлису, который чистил очередную гулию, подошла тетушка и спросила: «Почему, сынок, ты на такую поганую работу нанялся? Платят, что ли, хорошо?» Карлис был из тех, кто за словом в карман не лез: «Платят немного, а что делать, раз только что из тюрьмы? Но кое-что перепадает - то картофелину, то морковину, а то и бульонную косточку выловить удается...»Тетушка ушла, отплевываясь.
С Карлисом и еще с одним бывшим легионером, Юрисом Целмсом, моим ровесником, мы какое-то время работали в аварийной бригаде. Карлис за бригадира. В канализационном хозяйстве он работал еще при Улманисе.
Утром получили разнарядку, запаслись инструментами, загрузили их в ручную тележку. Ехать пришлось через весь город. Колеса, обитые железными обручами, гремели по рижским мостовым страшно. Тележка была тяжелая, в нее загружали все, что могло понадобиться для ликвидации аварии. Когда не было аварий, занимались профилактикой канализационной сети. Подсоединяли к водопроводу шланг, запускали его в канализационный люк, и вода промывала канализационные трубы. (Не видел, чтобы это делали сейчас.) Я очень хорошо узнал город, изъездил его вдоль и поперек. Вернее, исходил.
Карлиса постоянно мучила жажда. И хотя водка в те времена была очень дешевая,
однако Карлис придерживался заповеди - если пить, то лучше за чужой счет. И
придумал остроумный способ утоления жажды. Спустившись в канализационный люк, он
вставлял в отходящую от дома трубу несколько прутиков или щепочек крест накрест.
На следующее утро звонит управляющий - канализация не работает, дом затопило.
Являлись мы со своей тележкой. Управляющий чуть ли не на коленях молит нас
быстрее исправить аварию. Карлис чешет в затылке: дело серьезное. Но после
обещания выставить «магарыч» он спускается в шахту и, посидев в ней пару часов,
вытаскивает щепочки, за которыми уже скопилась большая пробка из нечистот, и
сточные воды с шумом несутся по трубе. А стол уже накрыт. Обычно в квартире
дворника. Мы с Юрисом выпивали по рюмке, остальное - Карлису.
В послевоенной Латвии вообще пили много: чуть не на каждом углу была
«забегаловка» с двумя-тремя столиками. Назывались они «американками». Там можно
было выпить сто, двести граммов или просто кружку пива еще и с «глубинной
бомбой» (50-100 г), что тогда было в моде, закусить бутербродом. За кружкой
«крепленого» пива можно было сидеть и болтать часами. А поговорить было о чем. О
войне, об улманисовских временах, о будущем, близком и далеком. Каждому было что
вспомнить. Потихоньку ругали русских и коммунистов, если были уверены, что рядом
нет «стукача». Возможно, тогда их было меньше. Тогда и так о каждом знали все.
Всех просеяли, профильтровали, и процесс продолжался. Но всех, кого следовало,
все равно в тюрьму не упрятать. Тюрьмы были набиты битком. Да и работать кому-то
надо было.
Как я уже сказал, пили в Риге тогда много, но черно-синих спившихся
«сенегальцев», которых я увидел, возвратившись в
Ригу спустя следующие тринадцать лет, проведенных в Сибири, в первые
послевоенные годы в Риге не было. Может быть, потому, что молодежь в те годы
пила мало. Пили зрелые мужчины. Не знаю, как с точки зрения нарколога, но, по
моим наблюдениям, алкоголиками становятся только те, кто начинает пить в ранней
юности, до тридцати. И мы, молодые «шиндеры», пили мало - только за компанию со
стариками, в день получки. Помню, когда строили на улице Клияну новый
канализационный коллектор, часто ходили на расположенное рядом Большое кладбище,
выпить на могилах наших духовных лидеров и послушать соловьев. На заросших,
всеми забытых могилах Андрея Пумпура, Кришья- ниса Валдемара, Кришьяниса Барона,
Фрициса Бривземниека и кого-то еще. Конечно, мы, молодые, не знали, где
находятся их могилы. Знали старые рабочие. Народу надлежало забыть своих
знаменитых соотечественников и поклоняться мудрецам, вождям и кумирам другого
народа, и процесс подчинения народ произошел очень быстро. Все латышское, все,
что носило мало-мальски национальную окраску, по возможности затушевывалось.
Два Яновых дня мне удалось в Латвии отпраздновать. В то время праздник Лиго еще
не запретили, но люди других национальностей уже вносили в празднование что-то
свое, для нас неприемлемое. Во времена свободной Латвии в канун Янова дня в Риге
на набережной Даугавы проходили традиционные веселые «тростниковые сражения».
Традиция очень давняя. В русские времена она была прервана. В пучки аира
засовывали дубинки или металлические стержни и дрались так, что кровь лилась
рекой...
В 1948 году состоялся очередной Праздник песни. Но это уже был не старый
красивый праздник, а какая-то неприемлемая для латышей комедия - с акробатикой,
поднятием тяжестей и другими подобными номерами. И песни других народов звучали
больше, чем латышские песни. Все это было неизбежно. Мы были побежденным
народом. Все понимали, что происходит, но не было силы, которая сумела бы этот
процесс остановить. Те, кто мог что-то сделать, были или уничтожены в первые же
годы войны в русских лагерях смерти, или, спасаясь, уехали на запад. Остальные
были запуганы, апатичны, не видели выхода или куплены «по дешевке». Были,
конечно, и «ушибленные» безумными идеями. Ходили, правда, слухи о каком-то
движении сопротивления, о тайных школьных кружках. Но ни в одном средстве
массовой информации о таких вещах не сообщалось, как и о партизанской войне. И
об арестах тоже. Вся информация существовала на уровне слухов.
18 ноября 1948 года (если мне не изменяет память) на башне Цесвайнского замка школьники подняли красно-бело- красный флаг. В замке находилась гимназия, директором которой была наша родственница Марта Гринберга. На эту ответственную должность она была назначена потому, что ее муж, упоминавшийся уже Александр Гринберге, погиб в немецком концлагере. За флаг Марту вышвырнули из директорского кресла, она с трудом удержалась на должности учителя. Марта была счастлива, что избавилась от директорства, которое воспринимала как камень на шее.
Незавидна была в те годы судьба учителя. Он должен был отдать «дьяволу» хотя бы мизинец. А каждый знает, что после этого происходит с рукой. Но что делать? Детей учить надо было. Большинство учителей стояло перед дилеммой: продолжать учительствовать или идти в свинопасы. Случалось, уходили. И свиней пасли, и коров доили бывшие учителя. И не только в Латвии, но и в Сибири. Возможно, главная вина в оболванивании народа лежит на школе, но не одни же дураки выросли, во всяком случае, как бы то ни было, уровень образования и культуры в нашей маленькой, изнасилованной идеями коммунизма Латвии все же выше, чем в других «братских» республиках. Но были учителя, которые осмеливались и умели в разрешенный официальный текст вносить и детьми интуитивно улавливаемый подтекст. Не позавидуешь тем учителям (как, очевидно, никому) и потому, что им приходилось засорять свои мозги бесполезными, лживыми знаниями. Учителей насильно заставляли подписываться на собрание сочинений Ленина. Но самое главное - не Москва руководила системой образования в Латвии, не русские контролировали, а сами же латыши. Наши комсомольцы, «юноши с пылающим взглядом», отчитывали убеленных сединой учителей за недостаточное усердие в деле воспитания детей в духе великих идей.
Цесвайнская школа была не единственной. Флаг Латвии время от времени в Латвии развевался. Зачастую за это приходилось дорого расплачиваться. А потом оказалось, что не одна антисоветская группировка была организована самими чекистами. Во- первых, чтобы «унюхать» возможных подпольщиков, во-вторых, чтобы подчеркнуть жизненную необходимость в их конторе, показать, что у них работы по горло и нужны более солидные средства для ликвидации антигосударственных группировок.
Да, для многих жизнь в послевоенной Латвии была зыбкой, полной опасностей, ненависти и неизвестности.
Я родился и провел детство в провинции, но в Риге жил неделями и помнил город красивым, чистым, весь в огнях. И вот он серый, ободранный, переполненный русской речью и русской музыкой. Вспоминается, как месяцами из всех уличных репродукторов (кажется, было это летом 1949 года) звучало: «Хороши весной в саду цветочки...» Песня эта так понравилась Сталину, что композитору вручили Сталинскую премию, и теперь крутили ее с утра до вечера. Такого чужеземного идиотизма в те годы было хоть отбавляй. Когда я вернулся в Ригу уже в 1962 году и вспоминал, как стремительно и с каким усердием проводился после войны процесс обрусения, оглупления народа, процесс дегенерации, оставалось только удивляться, как Рига сумела сохранить свою идентичность, которая все же подавила то, что навязывалось и прививалось силой и хитроумием долгие годы.
Этот период моей жизни был как бы неким очень коротким антрактом между двумя ссылками, однако учитывая постоянные вызовы в управление милиции, ограничения на передвижение и т.п., и его в какой-то мере можно было приравнять к ссылке. В моем временном удостоверении стояла запись: «Действительно только в Риге». На месяц-другой меня оставили в покое, но потом на них снова что-то нашло, и меня теребили ежедневно несколько недель подряд. Все пытались приписать мне побег. Когда я ссылался на распоряжение НКВД о том, что высланные несовершеннолетними имеют право вернуться домой, надо мной только смеялись. Во время «бесед» со сталинскими жандармами внутри меня все дрожало, словно натянутая струна. Это не был страх, это было чувство бессилия и безвыходности. И ненависть. Неукротимая ненависть. Следователи перебрасывали меня как футбольный мяч друг другу. «Бить по воротам», очевидно, никто из них не хотел, так что дальше угрозы ареста дело не доходило. Среди следователей была и женщина. Вот уж кто с особым наслаждением издевался надо мной! Неужели у следователей, удивлялся я, нет другого, более важного, более серьезного дела, кроме моей «выдающейся» персоны. Со мной ведь и так все ясно. Когда меня выслали, я был несовершеннолетний, ни в каком подполье не участвовал, комендант Игарки выдал разрешение на отъезд. Но потом выяснилось, что многомесячные издевательства над собой испытали многие вернувшиеся домой молодые люди, и конечным результатом стала вторичная ссылка. Нам всем пытались вменить побег. Я уже тогда понял, что ни одно учреждение не способно столь изощренно доказывать свою необходимость, свою высокую, святую миссию, как учреждения государственной безопасности. Да и удобней было тянуть резину в моем и подобных моему делах, чем ловить укрывавшихся еще кое-где в лесах партизан. От них можно было получить пулю в лоб. Партизаны были головной болью чека. Хотя к тому времени почти все были выловлены. Ходили слухи, что на литовской границе и в Курземе они еще действуют. Когда был в Екабпилсе, я многое узнал о партизанской борьбе.
Вернулась из Сибири в Ригу и семья Ландман, которую выслали из Екабпилса вместе с нами. Ландман пять лет просидел в лагерях на севере Кировской области, в так называемом Вятлаге. Освободившись, он забрал семью из Куличек и все вместе вернулись в Латвию. Ландман был единственным из высланных из Екабпилса мужчин в 1941 году, кому посчастливилось вернуться. Позднее возвратился еще один - Херманис Путелис. Остальные погибли. Большинство в первую же зиму.
Ландман был не особенно словоохотлив: в те времена это было рискованно. Он дал подписку о том, что о годах заключения ничего рассказывать не будет. Но и по тем крохам, что он осмелился мне рассказать, можно было догадаться о том, о чем до сих пор У меня были смутные представления. Кое-что о русском плене и фильтрационных лагерях я уже знал из рассказов легионеров, но рассказанное ими трудно было сравнить с тем, что происходило в годы войны в Вятлаге и в остальных специально для уничтожения людей построенных в Российской империи лагерях смерти. Подробнее об ужасах Вятлага я узнал гораздо позднее. В шестидесятых годах я встретился с последним из оставшихся в живых екабпилсчан Херманисом Путелисом. Он говорил, что остался жив только потому, что без возражений подписывал все, что ему велели подписывать, даже пустые страницы, лишь бы не подвергаться допросам. Большинство заключенных было уничтожено в первую же осень и зиму. Арестантов выгоняли голышом на мороз, обливали холодной водой, и через несколько минут человек подписывал все, что нужно было следователю. В графе о причине смерти в деле большинства заключенных Вятлага стоит: воспаление легких. Как у моего отца. Но что с ним случилось на самом деле? Сколько минут смог выдержать его закаленный организм? В деле моего отца записано, что он своей вины не признал...
Уже в начале Атмоды, когда я начал писать свои воспоминания, о Вятлаге многое
поведал мне Липман Слуцкин, даугав- пилсский еврей. Интересный человек,
остроумный, обладавший колоссальной памятью. Как анекдот он пересказывал случай,
когда бывший посол Латвии во Франции, с которым они работали на лесосеке в
бригаде бывшего министра земледелия Бирзниекса, угощал его запеченными на углях
червями, сказав, что на банкетах у президента Франции ничего вкуснее не ел.
Слуцкин рассказывал, как весной они ели выловленную из болота лягушачью икру. О
многом рассказывал мне Слуцкин. У него была хорошая память, но помнил он почти
только евреев, а было их человек сорок. Он назвал имя и того, чья подпись стояла
на документах об аресте. Это был секретарь Даугавпилсского партийного комитета
еврей
Тайвиш Ф. Список этот я передал в еврейское общество в самом начале Атмоды, но
особого интереса к этой теме с их стороны не заметил. Евреи зациклились только и
единственно на преступлениях фашистов. И в Рижском еврейском музее
преступлениям коммунистического режима уделено очень мало места: осуждение этих
преступлений не популярно, это, очевидно, не находит такого отклика в мире. Я
этого не могу понять. В течение прожитых в России двадцати лет я был свидетелем
непрекращающегося геноцида евреев. Морального, замаскированного, который
периодически переходил в открытое физическое преследование. А тридцатые годы?
Среди оставшихся в живых жертв тридцатых годов, с которыми мне довелось
встречаться в ссылке и в тюрьме, чуть ли не каждый второй был еврей. Слишком
большие надежды возлагали евреи на коммунистический режим, на интернационализм,
на равноправие. Все это был обман, демагогия. В отношении жертв 1941 года -
только в Вятлаге погибло около трехсот евреев из Латвии. Из Латвии евреев было
выслано пропорционально к количеству населения больше, чем латышей, но и выжило
их пропорционально больше. Интересное объяснение дал этому
Липман Слуцкин. Он
говорил, что, во-первых, евреи с детства привыкли к постной пище, так как их
национальная кухня традиционно небогата жирами, а латыши привыкли к жирной пище
(а какие жиры в лагере?). Во-вторых, латыши старались больше работать, чтобы
получить лишние сто граммов хлеба. Но эти жалкие граммы не могли восполнить
затраченные на изнурительных работах калории. «Мы, жиды, - говорил Слуцкин, -
уклонялись, как могли, притворяясь больными, старались спокойно лежать, лишь бы
тратить как можно меньше энергии».
Слуцкин рассказывал, как осенью трупы бросали в омуты, в трясину. Весной они
всплывали. И Путелис об этом рассказывал.
Все это было в начале Атмоды, диктофоны еще были редкостью. Я бы многое сумел узнать у Слуцкина и записать, но он уехал в Израиль. Путелис умер.
В начале Атмоды мне многое стало известно о Вятлаге от тех немногих, кому посчастливилось оттуда вернуться, и в 1988 году, приступив к воспоминаниям, я посвятил этому немало страниц, так как на латышском языке не было ни Солженицына, ни Панина, ни Шаламова, ни Гинзбург. В латышской литературе тема эта почти не поднималась. В издательстве «Авотс» все еще кромсали и кроили «Сибирскую книгу» Александра Пелециса (пока с большим трудом, искромсанную и вымученную, не выпустили под названием «Черный ветер»). Издательство продолжало жить в революционно-патриотической атмосфере недавно изданных очерков о знаменитых разведчиках, славных чекистах и лживой серии «Судьбоносные годы Латвии» и полгода «мариновало» мои воспоминания, вернув их с извинениями, мол, тема эта «утратила актуальность». А шел еще только 1989 год.
Сейчас о ГУЛАГе опубликовано довольно много. Солженицын доступен каждому. В 1995 году «Сибирская книга» Пелециса вышла без купюр (в США еще в 1993 году). Изданы «Латышский офицер № 35473» Роберта Габранса, «Оставшиеся за кадром» Яниса Зиле, лагерная поэзия Кнута Скуениекса и еще многое, что поделить на более или менее значимые вещи попросту невозможно, так что, полагаю, эти страницы из своих воспоминаний я могу опустить. И не потому, что о русских лагерях смерти написано много, а потому что в мемуарах следует писать в основном о собственных переживаниях, о том, чему сам был свидетелем. Если же все-таки я посвятил несколько страниц Вятлагу, то только потому, что то, что знаю я, - самое ужасное, самое невероятное из того, что мне известно о советских местах заключения, еще и потому, что там лежит мой отец, и потому, что нет больше никого, кто мог бы написать о Вятлаге хоть что-то, и потому еще, что полвека спустя я добровольно прошел по болотам и липкой, смрадной глине, по которым когда-то ходил и мой отец.
24 марта 1949 года мы отмечали юбилей нашего коллеги Антона Дунскиса. Жил он в Пардаугаве. Когда мы, четверо или пятеро гостей Антона, поздно вечером возвращались одним из последних трамваев домой, обратили внимание на скопление грузовиков и людей в форме по южной и восточной стороне площади Узварас. Все догадались, что происходит что-то нехорошее. Я влетел в квартиру, тепло оделся, схватил кусок хлеба и еще что-то, сквозь дыру в заборе пробрался на больничный двор и спрятался в поленнице дров. Там же и спал. Сестра в ту ночь дома не ночевала, осталась в больнице, в своем отделении. Так мы скрывались несколько дней. На работу я не ходил, болтался по Риге. Несколько ночей провел у Лапиньшей в Межапарке. Узнал, что в ночь с 24 на 25 марта по всей Латвии прошли массовые аресты. В ту ночь арестовали и Антона - через несколько часов после нашего ухода. Вовремя мы разошлись, иначе и нас бы взяли. (О таких случаях рассказывали.) Тем более потому, что все мы были изрядно навеселе. Антона отправили в Амурскую область.
Вначале никто в Риге по-настоящему не осознал трагизм происшедшего. Аресты проводились постоянно, в этом не было ничего необычного. Одни, отсидев, возвращались, других брали взамен. Многое воспринималось как само собой разумеющееся: такие были времена. К тому же в большом городе депортация была не так заметна. Но через несколько дней стали приходить страшные вести из деревни. Истинных цифр никто не знал, и только спустя какое-то время, пока стало понятно, что за одну ночь было загублено сельское хозяйство Латвии, что, возможно, его не удастся восстановить уже никогда. А как все происходило! Пожилых людей загоняли в вагоны, парализованных вносили на носилках. И маленьких детей! И даже младенцев! Трудно было верить рассказам очевидцев. Но для меня в этом не было ничего невероятного, потому что восемь лет назад я сам был свидетелем подобного. За границей и сейчас этому не верят, и чем дальше, тем меньше будут верить. В то, что произошло с евреями, верит весь мир. Расправа с латышами, литовцами, эстонцами - «малая величина». Пустяк. Геноцид балтийских народов никого в мире не интересует.
Волной депортации 25 марта меня не смыло. В Советском Союзе такие вещи всегда носили кампанейский характер. Если в критический момент удавалось скрыться, оставалась надежда пожить некоторое время на свободе. Я жил и работал, и ждал, когда придут за мной. А что было делать? Прятаться в лесу, под каким-нибудь мостом с топором в руках и ждать какого-нибудь богатого хозяина или торговца, как когда-то ждали моего отца разбойники? Но все хозяева были в Сибири и уже были ограблены. А до тех, кто их грабил и у кого, по принципу ленинской морали, следовало бы отнять награбленное, было трудно добраться. Я жил и работал, но карающий меч «рыцарей революции» уже был занесен над моей головой.
Как-то вечером нас с сестрой почтил своим посещением некий субъект в штатском. Он представился как сотрудник министерства внутренних дел Пратыньш. Из русских латышей. После войны вернулся в Латвию в статусе победителя - строить Советскую Латвию (его слова). Приходил он не один раз.
Однажды пригласил нас на прогулку. И так, прогуливаясь, мы дошли до Главного управления милиции. До этого допросы велись главным образом на первом этаже, но на сей раз мы поднялись на самый верх. И тут уже состоялся не разговор, а допрос. Меня уже несколько месяцев не трогали, и я решил было, что они успокоились, но все началось снова. Сначала допрашивали сестру, я сидел в коридоре, как сидел уже не раз. Затем вызвали меня. В тот вечер я впервые увидел «дело» моего отца. Это была довольно толстая папка. Меня опять подробно расспрашивали, протоколируя ответы, потом заставили писать автобиографию. В который раз! Пока я писал, Пратыньш и еще несколько чекистов пили чай и «травили» анекдоты. Помню анекдот о вше и блохе, едущих в поезде. Анекдот носил политическую окраску и был за пределами дозволенного. Но им-то кого бояться? Они свои люди, друзья, а молокосос мальчишка, который строчит тут свою богатую биографию «врага народа», не в счет.
Когда-то во время охоты у меня буквально сердце щемило из-за каждого убитого зайца или белки, но сейчас, в чекистской конторе, рука моя, вероятно, не дрогнула бы, выпуская автоматную очередь в эту банду сытых циничных негодяев, субъектов «с горячими сердцами, холодным умом и чистыми руками».
Освободили меня поздно вечером. Сестра ждала меня в коридоре.
Так странно, как вначале держался с нами Пратыньш, не вел себя ни один из
следователей, и мы с сестрой не могли понять, к чему вся эта комедия, а дело
оказалось чрезвычайно простым - Пратыньш хотел завербовать нас (по крайней мере,
хотя бы одного из нас) в «стукачи». Но давление было не очень сильным.
Притвориться глупым, кактогда на озере, я не мог, потому что и Пратыньш был не
дураком Фомченко. Да и я уже был не мальчишка. Запугать меня не получалось, и
было ясно, что Сибири мне не избежать. Сестра тоже кое-что повидала, так что
близко к сердцу тоже особенно ничего не брала: и ее запугать было трудно. Да и
не особенно пугали. Пратыньш мне не угрожал, но дал понять, что ничего хорошего
меня не ждет. И вскоре я отправился в свое второе путешествие в Сибирь. Кто
знает, какую роль сыграл Пратыньш в моей дальнейшей судьбе? После допроса я его
больше не видел.
На одном из допросов я спросил у Пратыньша, за что арестовали моего отца. Он сказал, что причин много, но одна из главных - то, что отец не остался в России, а уехал в буржуазную Латвию и организовал здесь фашистскую организацию айзсаргов. Коль уж начал служить одному богу (большевикам), следовало служить до конца. Но я уже тогда был убежден, что отец выбрал единственно правильный путь, и я до земли должен поклониться его памяти и до конца жизни должен быть благодарен за то, что он не остался в России, как сделали это многие, в том числе и Пратыньш. По крайней мере, детство у меня было счастливое. Счастливое по-настоящему, а не «сталинским солнцем согретое», как у советских детей. Если бы отец остался в России, он, безусловно, был бы арестован в 1937 году, как почти все оставшиеся в России стрелки, какие бы должности они не занимали. И я тогда бы стал сыном врага народа еще в возрасте одиннадцати-двенадцати лет и вряд ли писал бы сейчас эти строки. Меня никто и никогда не заставлял отказаться от своего отца (как происходило это в Советском Союзе с так называемыми детьми врагов народа), забыть отца и мать, забыть свое настоящее имя. Никто не пытался превратить меня в еще одного Павлика Морозова или Виктора Алксниса. И за это я должен благодарить отца - за то, что он вовремя вернулся в Латвию.
Оставшиеся в Советском Союзе латышские стрелки - еще одна трагическая страница в истории латышского народа. Что знаем мы о причинах, которые заставили многих остаться на чужбине? Идея? Сомневаюсь, чтобы идея могла многим заменить родину. Тем более, что за идею можно было бороться и на родине, и кое-кто так и поступил (насколько это оправданно, другой вопрос). Что тогда? Я думаю, главной причиной было тщеславие, карьеризм, нежелание отказаться от высокой должности, которую они занимали в новой Российской империи. В новой, национальной Латвии их заслуги не имели бы никакого значения: здесь им пришлось бы все начинать сначала (что многие и делали). Если бы они знали, что их ждет 1937 год! Многие из них ради карьеры шли по трупам, и по трупам своих соотечественников и однополчан в том числе, но это мало кого спасло. Мне довелось наблюдать вспышки ненависти тех, кто не вернулся, в отношении тех, кто вернулся. И в разговорах с Пратыньшем это чувствовалось. У меня было ощущение, что он знал моего отца. (Мне даже взбрела в голову шальная мысль, уж не он ли был тем комиссаром, который, вскочив на лошадь моего отца, сбежал, когда на них напали банды Махно.) В чем причина такой ненависти? Возможно, это было разочарование в судьбе, которую они сами для себя избрали? Для себя и своих детей. Возможно, это была зависть и горечь, что жизнь прожита напрасно?
Родителей не выбирают. Но каждый обязан думать о том, не придется ли детям стыдиться поступков отца. Может быть, это и есть главный критерий, которым следует мерить свои дела, свою жизнь.
Кто-то мудрый сказал, что мы даже не осознаем, насколько тесно наша жизнь связана с жизнью наших родителей. Это действительно так. Делая шаг, надо думать о том, как он отзовется через десятки лет.
В конце июля я получил предписание явиться, но не в Управление милиции, а в Министерство внутренних дел, на улицу Реймерса.
В просторном кабинете за огромным столом сидел щуплый лейтенантик органов безопасности. Казалось, и кабинет, и стол велики и для молодого лейтенанта Полякова, и для меня. На его первый вопрос - откуда приехал, - я ответил, что ему это, очевидно, известно, иначе бы он меня не вызвал. Потом он спросил, что я скажу, если мне придется вторично отправиться туда, откуда я сбежал.
Снова последовал долгий допрос, который от всех предшествующих отличался более въедливыми вопросами о родственниках моей матери - о Поляковых. Лейтенант предложил мне отправиться в Сибирь за свой счет, но потом возразил - если у меня есть деньги, они мне могут понадобиться в Сибири, и велел написать просьбу об отправке по этапу. И я под диктовку на русском языке написал «подписку»:
Подписка
Я, Кнагис Илмар Эмильевич, даю настоящую подписку органам МВД Латвийской ССР в
том, что из-за неимения денежных средств для приобретения проездного билета до
места моего поселения г. Игарка, Красноярского края, добровольно изъявляю
желание ехать вагонзаком через пересыльную тюрьму ОИТК МВД Лат. ССР.
В чем и расписываюсь
И. Кнагис, 01.08.1949.
Этот документ подшит в моем уголовном деле, копия которого, как и копии дел матери и отца, имеются сейчас в моем распоряжении. Но в 1989 году, когда я писал об этом, я помнил только главный смысл документа: «(..) из-за неимения денег изъявляю желание ехать в вагонзаке (..)». Этот документ лишний раз характеризует идиотизм происходившего. Да, такие были времена!
Позже выяснилось, что такую «подписку» писал не я один из высылаемых повторно.
Итак, в тюрьму я отправился добровольно. Как та кошка из анекдота, которая добровольно слизывала намазанную под хвостом горчицу...
Лейтенант велел также написать заявление об увольнении с работы по собственному желанию. Когда я воспротивился, мол, не хочу бросать работу и вообще не хочу никуда ехать, он сказал, что для меня же лучше - трудовая книжка будет чистой. (Она-то чистая, но это в моей жизни никакой роли не сыграло.) Во время нашего разговора в кабинет вошел какой-то полковник, латыш, и на плохом русском сердито обратился к моему лейтенанту: «Что ты с ним возишься? Отправляй быстрее в тюрьму!»
За свою жизнь отдельные личности не причинили мне много зла, но если это случалось, то исходило оно от моих соотечественников, латышей. Возможно, такое случается со всеми? Возможно, так у всех народов? Мне хотелось бы сейчас встретиться с обоими офицерами и заставить их вспомнить ту ночь. Поняли ли они, что та ночь значила для меня? Неужто же хоть один из них был убежден, что перед ними на стуле посреди комнаты, как это было принято при допросе преступника, сидит действительно настоящий преступник?
Возможно, в первые годы существования советской власти, в двадцатые и даже в тридцатые годы, некоторые сотрудники органов государственной безопасности, ссылая, сажая в тюрьмы, уничтожая потенциальных так называемых врагов народа и даже их семьи, действительно были уверены что они действуют правильно, в интересах государственной безопасности, во имя неких благородных идеалов. Не только сотрудники «органов», но большинство обычных людей были убеждены, что если арестовали соседа, значит, было за что, но если арестовали его самого, то это ошибка. При низком уровне развития на-родного сознания это можно было если не оправдать, то, по крайней мере, понять. Но в середине столетия, когда уровень образованности общества был неизмеримо выше (во всяком случае, в городах), к тому же после войны, во время которой народ многое повидал, многому научился и многое понял, это нельзя было ни оправдать, ни простить. Что же это был за массовый психоз? Возможно, просто отсутствие культуры, этики и морали? И самое главное - отсутствие религии. Все это было уничтожено. Но кто же это сделал, если не сам народ? Разве не проклял сам себя русский народ, уничтожив вековые ценности, разрушив церкви, устраивая из иконописных досок кормушки для свиней, подчиняя и унижая завоеванные народы, принуждая их молиться своим идолам, навязывая им свой язык, обычаи, свою аморальную «мораль»? «Нет большего несчастья для нации, чем порабощение других наций», - сказал Карл Маркс. Но из учения Марксов, Энгельсов, гегелей и других мудрецов русские революционеры взяли только то, что им было выгодно. А что касается вины любого народа за судьбу другого народа и свою собственную, то маленький латышский народ повлиять на судьбу большого русского народа мог несравнимо меньше, чем большой русский народ на судьбы малых народов. Это, очевидно, оспаривать никто не возьмется. И не «жидовские комиссары» и несколько латышских стрелковых полков в состоянии были решить судьбу большого русского народа. Если это так, то копейка цена такому народу...
Возможно, эти слова кое у кого из русских вызовут возмущение, заденут его патриотические (шовинистические) чувства, но я это говорю с полным сознанием ответственности и убежден, что имею на это право только уже потому, что моя мать русская и, значит, вина русского народа ложится отчасти и на меня, если «там, за звездами» вообще признают такую ответственность всего народа. Но если так, то я надеюсь, что и я своей жизнью и особенно мать с ее страданиями искупили свою долю вины в общем грехе русского народа.
В ту ночь, несмотря на наставления полковника, лейтенант отпустил меня домой, только велел дать подписку, что я не сбегу. Мне надлежало явиться в понедельник с вещами. Посоветовал сходить в воскресенье в Межапарк, где состоится открытие эстрады под открытым небом. На вопрос, не собираюсь ли я жениться, я ответил, что на это у меня не было времени, так как в Риге я коротал время с его коллегами - следователями. Поляков шутку понял, засмеялся, сказал, что уж он-то пришлет мне девушку. Скорее всего, он не думал ничего плохого, просто на шутку ответил шуткой, но прозвучало это сверхцинично. Так, что захотелось дать в морду.
Было только начало недели, так что в моем распоряжении оставалось еще дней пять-шесть. В эти последние дни свободы я понял, как чувствует себя человек, которому сказали, что он неизлечимо болен и жить ему осталось несколько дней. Исчезли все надежды. Казалось, навсегда. Что делать? Скрыться в лесу? Искать «лесных братьев»? Такой вариант был. У сестры был знакомый литовец, имевший связь с литовскими партизанами. Им обещали амнистию, если они выйдут из леса и сдадутся (по большей части это были пустые обещания). А мне что делать? Неужто я опаснее партизан? Идиотизм!
Всего двадцать месяцев мне удалось пожить на родине, и вот снова в Сибирь! Снова на север! В Риге я уже начал чувствовать себя человеком. Получал зарплату, время от времени мог выслать маме десятку-другую, спал на постели (на диване), каждый день читал газеты, журналы, слушал радио, ходил в театр, в оперу, летом купался в море, осенью собирался пойти в вечернюю школу. После почти семи лет, прожитых в тайге и в тундре, я не мог насытиться цивилизацией. И на всем крест? Опять мороз, метели, костер, опять сотни километров по тайге, по следу несчастных белок?
Мама писала, что ей удалось переехать в Игарку. Способствовало этому то, что она осталась одна. Значит, мой отъезд в какой-то степени пошел ей на пользу. Это было небольшим утешением, так как я переживал, что уехал один. Мама писала, что работает в больнице санитаркой. Надеялась, что, может быть, удастся переехать если не в Латвию, то на юг Сибири. Маме в то время было пятьдесят.
Чем были заполнены последние дни свободы? Сходил попрощаться с друзьями на улицу Клияну, где мы как раз строили канализационный коллектор через территорию завода «Автоэлектроприбор». Отношения со всеми были хорошие. Много веселых минут провели мы вместе. Немало рижской земли перекидали, немало рижского дерьма (прошу прощения!) вычерпали. Мне все сочувствовали. Юрис Целмс, с которым под грохот тележки исходили мы по рижской брусчатке сотни километров, старый боцман Драугс со своими веселыми фривольными морскими байками, сорванец из Гризинькалнса Балодис, бригадир Фрицис, старый мастер Залитис, стайка студентов с факультета мелиорации, присланных к нам на летнюю практику, все мне сочувствовали, студенточки даже прослезились. И все не скупились на советы. И в лес надо бежать, и в Швецию уезжать. Русский парнишка Саша, бывший «урка», советовал, как вести себя в тюрьме, если придется столкнуться с уголовниками. Саша и раньше много рассказывал о жизни в тюрьме, и кое-что мне действительно впоследствии пригодилось.
Все мне сочувствовали, но никто ничего не в силах был сделать. Даже руководство
треста. А тот, кто был в силах?..
Валентина Клачкова, которой я тут же все рассказал, бросилась на мою защиту,
как львица. Вернее, как наседка, которая вступает в борьбу с ястребом, защищая
своих малышей. Валентина вместе со своим другом, тоже коммунистом улманисовских
времен, добилась аудиенции у кого-то из сильных мира того, кажется, у
Кирхенштейна, но все было напрасно. Неужто же вожди нашего народа ничего не
могли сделать? (Речь не только обо мне, о тысячах детей.) Хотя, может быть, и не
могли, так как чека Латвии, кажется, находилось в непосредственном подчинении
Москвы, и подписи наших вождей использовались только в репрессивных целях, а не
наоборот. Но, скорее всего, они и не пытались что-то сделать, да и не хотели.
Все они дрожали за свою шкуру, за свое место.
Ходили слухи, но я им не верю, что в свое время Вилис Лацис с большой горечью подписывал приказы и списки высылаемых. Я убежден, что у него было только две возможности остаться в памяти народа человеком чести - или отправиться в Сибирь вместе со своим народом, вождем которого он хотел быть, или пустить себе пулю в лоб. Он выбрал третий путь - путь предателя народа. И нет ему ни оправдания, ни прощения. Только проклятье народа. Как и всем прочим сильным мира того. И памятник ему на Лесном кладбище не должен стоять на почетном месте, заслоняя памятник Янису Макете. И в собственном книжном собрании я не храню книги Вилиса Лациса еще и потому, что не вижу в них особой художественной ценности. И сомнительной кажется идея ставить на театральных подмостках литературные изделия предателя народа. Есть грань, которую нельзя преступать, а поправший нравственные критерии утрачивает право даже на память.
В воскресенье, во второй половине дня, с благословения Полякова я действительно поехал на открытие эстрады в Межапарке. (Пятьдесят лет спустя на этой эстраде была создана группа Народный Фронт при ДННЛ - как альтернатива Народному Фронту Латвии). В Межапарке было полно людей. Песни, танцы, народные костюмы, выпивка. А у меня на сердце было мрачно. Было обдумано, было сделано все возможное, но выхода так и не нашли. Валентина сказала - если я очень хочу, она познакомит меня с людьми, которые на моторке доставят меня в Швецию, но риск велик. И Лапиньши рекомендовали мне Швецию или даже лес. Люди, с которыми я общался в доме Лапиньшей, были твердо убеждены, что русские в Латвии долго не продержатся, что Запад нам поможет. В те годы многие наивно надеялись, что англичане и американцы помогут нам освободиться от второй русской оккупации и долго в лесу сидеть не придется. Никакой логики в этих надеждах не было, просто люди не могли смириться с мыслью, что Латвии конец, что русские пришли навечно.
Только уравновешенный, мудрый Петерис Акотс сказал: «Пойдешь в лес - там свою голову и сложишь. Русские пришли сюда надолго, и никакие американцы не придут нас спасать. Поезжай в Сибирь. Один раз вернулся, вернешься второй раз». Может быть, не так именно он сказал, но смысл был именно такой. Акотс был одним из тех, кто еще способен был логически мыслить. Он дал мне немного денег. Многие тогда дали мне денег. И Клачкова. Скинулись и товарищи на работе.
Не уехал я в Швецию, не сбежал и в лес. И, кажется, поступил правильно.
В понедельник поздно вечером я явился к своему лейтенанту и сказал, какТенис из романа «Времена землемеров»: «Вяжите мои рученьки!..» На «бобике» мы отправились к месту моего проживания, я взял чемодан и рюкзак. Поляков вручил мне последнюю мою зарплату, которую получил вместо меня. Ознакомил меня с документом и велел расписаться в том, что я его читал - как социально опасный элемент меня высылают на место прежнего поселения. Я возразил - что-то здесь не стыкуется, ведь я сам написал заявление, а здесь говорится: меня высылают. Поляков засмеялся. По дороге он мне сказал, что в тюрьме я встречу еврейскую семью. Красивые девушки, Гита и Зита. Засмеялся, сказал, что девушки будут удивлены, когда я назову их по имени. Вероятно, в каждом деле можно найти и смешную сторону. Во всяком случае, надо стараться. И Поляков искал. Последние его слова, обращенные ко мне, были: «Ничего я не могу для тебя сделать, старик. Я только исполнитель». Думаю, это была правда. Поляков в «органах», очевидно, давно не работает, и не по возрасту, а из-за своего характера.
Его начальник, полковник, мой соотечественник, работал, вероятно, еще долго, заслужил еще не одну звездочку и не одну награду за усердие в борьбе с латышскими детьми и стариками и подобными «социально опасными элементами».
За мной закрылись тюремные ворота. Меня вели по длинному коридору, по обе
стороны его были двери. Одна дверь была открыта и захлопнулась за моей спиной. Я
остался один в пустой камере. Под потолком тускло горела электрическая лампочка.
Вдоль стен двухэтажные нары, в углу смрадный бачок с крышкой - «параша». Под
самым потолком маленькое зарешеченное окошко.
Подложив рюкзак под голову, я устроился на голых нарах. Из-за стены доносились
непонятные звуки - то ли стон, то ли плач. Я лежал с открытыми глазами. Внезапно
почувствовал прикосновение к ноге. Крыса! Огромная крыса снимала пробу с моего
сапога. Я метнул в нее рюкзак. О сне можно было забыть. В таком обществе недолго
и без носа остаться. Крысы пищали где-то возле параши. Иногда приближались ко
мне, но я старался держать их на приличном расстоянии.
Утром звякнул замок, и мне швырнули алюминиевую миску с жидкой овсяной кашей. Как английскому лорду. Первый «казенный» завтрак я не тронул. Было не до еды.
К моему удивлению, двери не закрыли, и я вышел посмотреть при дневном свете, где оказался. Постучал в дверь соседней камеры. Из этой камеры ночью доносились непонятные звуки. И эта дверь была открыта. В камере на узлах и чемоданах сидела еврейская семья. Папа, мама и две барышни моих лет, одна другой красивее. «Доброе утро! - поздоровался я. - Кто из вас Гита, кто Зита?» Девушки были безмерно удивлены. Это была семья Вестерман из Лиепаи. До русской оккупации Вестерманам принадлежал в Лиепае магазин готовой одежды. В 1941 году их сослали в Богучаны, на берега Ангары, в 1947 году они оттуда убежали (совершившими побег можно было считать только взрослых, но не девушек), и вот теперь, как и я, они отправлялись в свое второе путешествие в Сибирь. Мадам Вестерман проплакала всю ночь, а Вестерман читал псалмы. Вот откуда эти непонятные звуки.
Я недавно начал курить трубку, и ходил теперь в ароматном облаке «Золотого руна». Внутри у меня все дрожало, как натянутая струна, но я старался, чтобы этого никто не заметил. Девушки мне понравились, но я же не мог показать, что я убит, оглушен происшедшим. «Как ты можешь оставаться таким спокойным?» - удивлялись они. Я ответил: «Тюрьма - мой второй дом».
Пересыльная тюрьма находилась, если не ошибаюсь, где-то напротив Центральной тюрьмы, по другую сторону железной дороги, и состояла из двух пятиэтажных (или трехэтажных) корпусов. Один корпус ремонтировали - сами заключенные. На удивление ни мою камеру, ни камеру Вестерманов, еще какие-то камеры не запирали. Не знаю, почему, и не помню, кто в них сидел, знаю только, что ремонтировать соседний корпус ходили люди из этих камер. Возможно, это были арестованные за какие-то мелкие преступления. В тюрьме я встретил еще нескольких женщин и подростков, которых, как и меня, второй раз высылали в Сибирь. Очевидно, администрация тюрьмы считала, что мы не представляем опасности и никуда не убежим. Да и как убежишь, если вокруг двойное ограждение, и колючая проволока, и собаки, и сторожевые вышки с «попками» (охранниками), и глубоко сидящая в душе каждого покорность судьбе?
Большинство камер было на замке. В них сидели уголовники и, вероятно, политзаключенные, поопаснее меня. К вечеру все полупустые камеры, в том числе и моя, были заполнены, и их заперли, как и положено в настоящей тюрьме. Что за люди были рядом, не помню. Я вообще мало что помню о первых днях в тюрьме, только отдельные эпизоды, те, что касались непосредственно меня. Очевидно, я был все же в шоковом состоянии, хотя все, что происходило, не было для меня неожиданностью.
В первый день меня поражала полупустая тюрьма, но оказалось, что за день до моего прибытия большая партия заключенных была отправлена по этапу. Все знали, что тюрьмы переполнены, не была тайной и ежедневная отправка зарешеченных вагонов в восточном направлении, которые цепляли к товарному, а часто и к пассажирскому поезду. Люди видели и арестантские эшелоны уже после массовой депортации 25 марта. Шел страшный 1949 год.
«Страшным», на мой взгляд, следует назвать не только 1941-й, но и 1949 год. Один из самых черных в истории латышского народа. За двадцать лет до этого, в 1929 году в России началась принудительная коллективизация и уничтожение зажиточных крестьян. Все это длилось несколько лет. С крестьянством Латвии в 1949 году расправились за одну ночь. 1949 год вообще был щедр на события.
1949 год золотыми буквами может быть вписан в историю органов безопасности Советского Союза. В том году было завершено много «славных» дел, не только уничтожение сельского хозяйства в Балтийских странах. Одно из таких «героических» дел - повторная ссылка депортированных в 1941 году детей. Возможно, на фоне других преступлений тех лет ссылка тысяч детей и подростков покажется «мелочью», но мне, который и сам оказался в том страшном водовороте, так не кажется. Речь не обо мне. В 1941 году я уже не был младенцем, а уж в 1949-м - тем более. Но второй раз высылали и младше меня. Не только мальчиков, но и девочек, и это вдвойне ужасно. Пятнадцати-, десятилетних девочек отправляли по этапу с воровками и проститутками, через пять, семь тюрем в вагонзаках, на баржах. Десятки «шмонов» с унизительным досмотром. Происходило нравственное изнасилование. Но были случаи и прямого надругательства. Тюремные условия женщины переносили намного хуже, чем мужчины, хотя бы с точки зрения элементарной гигиены. Помню, как в Рижской тюрьме, случайно проходя мимо только что открытой камеры, я увидел полуголых «жучек» в жаркой, душной камере. Из камеры доносился виртуозный мат, удушающий запах давно не мытых женских тел вперемешку с ядовитым табачным дымом. В пересыльных тюрьмах гигиенические условия вообще были невыносимыми. Единственная гигиена - регулярная «прожарка» одежды, чтобы избавиться от вшей. В камерах было смертельно жарко и смрадно.
Мы были самой низшей тюремной «кастой» - политзаключенные, «контрики», враги
народа, фашисты. Включая подростков и детей. Люди вне закона, если слово
«закон» не утратило уже свой смысл.
Но так чека действовало не только в Латвии. Во всей Российской империи тюрьмы
были переполнены. Десятки национальностей с завоеванных в разное время
территорий и из самой России. Подростки и старики из Западной Украины, бывшей
территории Польши, белорусы и снова молдаване, как в 1941 году. Греки с
Северного Кавказа, крымские татары, чеченцы, ингуши, немцы, калмыки,
представители немногочисленных южных народов, которые в те времена были
окончательно ликвидированы, армяне из стран Ближнего Востока, которых после
войны русское правительство призывало вернуться на этническую родину и прямо с
границы отправило в Сибирь - за шпионаж. Такими вот «шпионами» других
национальностей были забиты тюрьмы. А еще власовцы и бандеровцы, побывавшие в
немецком, английском или американском плену! В России было огромное количество
пленных немцев и японцев. Чуть ли не основным контингентом пересыльных тюрем в
то время были так называемые «повторники» - уже однажды отсидевшие за
политические «преступления» и арестованные вторично. Очевидно, происходило это
по принципу - если не был ты врагом, то после пребывания в советских тюрьмах и
лагерях стал им. В этом была своя логика. Вообще-то из нас, репрессированных,
неустанно формировали врагов коммунистической власти. И мы ими стали.
Перемещение огромных людских масс из тюрьмы в тюрьму продолжалось весь 1950 и 1951 год, вплоть до смерти Сталина. Но «вершиной» был все же год 1949. Возможно, одной из главных причин массовых арестов в 1949 году стало начало строительства Великой Трансполярной железнодорожной магистрали - самой грандиозной и самой идиотской и утопичной из всех «великих строек коммунизма». Но об этом ниже.
В водоворот народов и языков, трагедий и идиотизма были вовлечены тысячи
латышских детей, юношей и девушек.
На фоне этих событий и разворачивались мои дальнейшие приключения.
Сестра получила разрешение на свидание со мной. Мы сидели за столом, напротив друг друга. Надзиратель восседал во главе стола и следил, чтобы сестра не передала мне что-нибудь запрещенное, например, пилку, чтобы перепилить решетку. Все происходившее казалось нереальным, словно я смотрел кинофильм.
Через несколько дней ворота тюрьмы отворились, но нас ждала не свобода, а дальний путь. До Москвы мы ехали в вагоне, названном именем небезызвестного Столыпина. Это был обычный купейный вагон, приспособленный для перевозки арестантов. Окна в купе были маленькие, забранные решетками. Двери двойные, одни железные, решетчатые. Пол и потолок железобетонные, но говорили, что из этих вагонов тоже бегут. В четырехместные купе набивали по 20 и даже 25 человек. Последних «клиентов» заталкивали ударом ноги, матом и подбадривающими криками: «Оно (купе) резиновое, растянется!»
В дорогу выдали «сухой паек» - хлеб и по горсти сушеной рыбешки. Я рыбу не ел,
еще не проголодался, так что жажда меня не мучила. Пить давали дважды в день -
по кружке омерзительной, пахнущей хлоркой воды. В туалет пускали тоже два раза
в день. Не пускали, а гоняли бегом. По одному. Утром и вечером. В другое время -
терпи. В одном купе поднялся невообразимый шум. Оказалось, что кто-то, не
дотерпев до утренней пробежки, оправился в свой сапог с широким голенищем,
доставшийся ему от немецкого солдата. Виновного избили и надели сапог на голову.
В конце концов, охрана погнала его мыться без очереди.
В некоторых купе ехали немецкие военнопленные. Куда везли их? Шел ведь уже 1949
год! В Риге их в то время было очень много, но как будто начали отпускать по
домам.
Охрана состояла из солдат монгольского типа. Лица у всех одного размера - «60 х 80». Офицер, кажется, был украинец. Все конвойные команды были укомплектованы азиатами. Говорили, что они палят без раздумья и без предупредительного выстрела.
Мне мало что запомнилось из этой поездки, только некоторые эпизоды, словно бы увиденные в каком-то фильме. Помню страшную жару и смрад. Нельзя было ни лежать, ни сидеть. Ехали словно подвешенные в воздухе, как на насесте. Нас в купе было больше двадцати человек. Кто были эти люди, я не помню. Слишком удручающая была поездка, но, к счастью, не очень долгая. А потом Москва, «черный ворон», в который нас утрамбовали друг на друга, как сельдь в бочку, как мертвецов в фильмах о чудовищных преступлениях немцев. И, наконец, тюрьма «Красная Пресня». Тюрем в Москве достаточно: «Таганка», «Бутырки», «Матросская тишина», «Лефортово» и страшная «Лубянка» - подвалы чека. Я познакомился только с «Красной Пресней», но и этого хватило.
Сначала было что-то похожее на карантин. Несколько дней, проведенных в этой камере, не забыть. Москва встретила нас хорошей погодой. Было начало августа, и если на улице было градусов 20-25, то в камере, очевидно, вдвое больше. Окна были забраны так называемыми«намордниками» - металлическими экранами. Они закрывали все окно, только внизу оставалась небольшая щелка. Верхняя щель была немного шире, виден был даже клочок неба. Эти намордники тоже изобретение Столыпина. (Я что-то очень в этом сомневаюсь. Ему хватало забот с земельной реформой.) Что испытываешь за этими железными намордниками (если еще камера на солнечной стороне), я узнал на себе.
в камере было битком. И все почти голые. Жара и смрад невыносимые. В туалет не выпускали. Все там же, в парашу. Двух стариков вынесли, и больше я их не видел. В детстве я читал роман о пиратах «Под свинцовыми крышами Венеции». (Возможно, так называлась какая-то глава романа.) Речь шла о тюрьме, крыша которой была покрыта свинцовыми пластинами. От жары свинец плавился и капал на головы арестантам. До этого чекисты-инквизиторы еще не додумались, но хватало и железных намордников.
Насколько мне помнится, большинство обитателей камеры были «блатные» - уголовники. Все в татуировках. Кое-кто с головы до ног. Единственные сведения о тюремной жизни - об «урках», «суках», «фраерах» и других категориях обитателей тюрьмы - я почерпнул из рассказов своего рижского коллеги Саши. Возможно, за то, что в первые дни пребывания в камере мне не довелось столкнуться со всеми изощренными повадками уголовников, следовало благодарить ужасающую жару. Все это произошло позже. Все напоминали дохлых мух, проклинали начальство, колотили в дверь, пытались выломать намордники.
Через несколько дней, а может быть, назавтра (точно сказать невозможно, потому каждый час в этой камере был длиною в день) нас с Вестерманом вызвали «с вещами на выход» и повели длинными коридорами. Вестерман сильно хромал, идти ему было трудно, и охранник его постоянно подгонял. Но куда торопиться в тюрьме? Возможно, только когда перелезаешь через забор.
Ни жену, ни дочерей Вестермана после Риги мы не видели. Вестерман был в отчаянии и думал, что их расстреляли. Я его успокаивал - если бы расстреляли, скорее всего его, а не женщин.
Нас ввели в большую камеру. Помещение было светлое, без намордников. Было чем дышать, хотя камера была переполнена. Двухэтажные нары буквально забиты людьми. Многие сидели на полу. Для нас с Вестерманом тотчас освободили место в правом углу возле окна. С первых же минут мы попали в дружескую атмосферу. В этой камере я провел три недели. Очень интересное время: я узнал много такого, что мог узнать только в этой камере и только от этих людей - то, что тогда не знали миллионы, тем более жители Латвии.
В камере содержалось человек 80-90. Были баптисты, 5-6 армян из Ирана. Все остальные обитатели камеры были «повторники» - отсидевшие когда-то по знаменитой 58-й статье, по всем ее пунктам - с первого по четырнадцатый - и подпунктам а, б, в и т.д. Это предательство, террор, агитация против советской власти, сотрудничество с мировой буржуазией (этот пункт вменялся и моему отцу - 58-4) и другие звучные и столь же идиотские формулировки. То есть, подлинные «враги народа» и «предатели родины». Я со всем этим столкнулся как будто впервые, но, присушиваясь к разговорам, я вспоминал кое-что из слышанного в детстве. В разговорах назывались фамилии - Ежов, Ягода, Ульрих, Тухачевский, Блюхер, Егоров. Называли и латышские фамилии - Алкснис, Эйдеман и еще чьи-то. Память мне подсказывала, что некоторые из этих фамилий я слышал в детстве в беседах отца со знакомыми. Воспоминания об этих беседах у меня ассоциировались с баней. Баня в Екабпилсе была заведением, где не только мылись и парились, она напоминала скорее клуб. Думаю, так было не только в Екабпилсе.
Каждую субботу отец шел в баню и брал с собой меня, даже когда я был еще совсем маленьким. Вся компания, к которой принадлежал и отец, отчаянно парилась. И когда кто-нибудь, не выдержав жары, спускался с полка, все веселились, словно мальчишки. Я гордился тем, что отец из самых выносливых. Потом мужчины, закутавшись в простыни, долго сидели в раздевалке и говорили о политике. После чего шли в парилку по второму и третьему разу и снова разговаривали, и так долго, что банщик просил господ покинуть заведение.
В конце тридцатых в России происходило много непонятного. Не только для меня,
мальчишки, но и для взрослых. В России сажали в тюрьмы и расстреливали своих.
Сталин убрал всех своих соратников. Назывались многие, в том числе латыши. Я
прислушивался к этим разговорам с большим интересом. Страшно политизированное
было время. В Испании шла гражданская война. Газеты каждый день печатали карту
Испании с указанием линии фронта. Мадрид, Бильбао, Алказар! Некий журналист
Жанис Грива собирался в Испанию на подводной лодке. Многие мальчишки, среди них
и я, наклеивали в тетрадь вырезки из газет, делали прогнозы исхода войны. Все мы
были на стороне Франко. Итальянцы воевали в Абиссинии (мы были на стороне
абиссинцев), японцы дрались с китайцами. Все это было понятно, но то, что
происходило в России, было непонятно. О зверствах чекистов я кое-что читал в
журнале «Айзсаргс», читал «Черную книгу» Вицупа, в которой описывались зверства
большевиков в Латвии во время правления Петра Стучки. И об этом много говорили.
И вот в тюрьме, слушая разговоры сокамерников, я вспомнил, что в детстве, в
бане, я слышал упоминаемые фамилии. Вспомнилось, как я вмешался в какой-то
разговор, сказав, что Сталин, вероятно, перестреляет всех и останется в России
один. Отец шлепнул меня по голому заду, сказав, что детям вмешиваться в
разговоры взрослых не рекомендуется. Но очень скоро и я против своей воли был
втянут в политику, как многие дети и даже младенцы.
Сегодня кое-кто, пытаясь оправдать настроенных просоветски латышских левых той
эпохи, объясняет это тем, что в Латвии тогда мало кто владел достоверной
информацией о происходившем в России. Возможно, обычным людям действительно об
этом было мало известно, да и то только тем, кого это интересовало. Но
маловероятно, что об этом не знали в высших сферах. Во всяком случае,
интеллигенция об этом была хорошо информирована, не говоря уж о дипломатах (и со
временем еще многое вскроется). Я уверен, что все, кто вместе с Кирхенштейном
вошел в новое правительство, все, кто занял ведущие должности в новых структурах
власти, прекрасно знали, что ждет латышский народ. Народ, но не их самих.
Забота всех тогдашних коммунистов и других левых лидеров о народе были пустые
слова, беспокоились только о себе, о своей карьере. Но многие из них
просчитались. Как и в России. И наши социки просчитались: вместо ожидаемых благ
и власти многие получили все ту же Сибирь.
В нашей камере собралась интересная компания. Здесь я близко познакомился с красной интеллигенцией русской империи, с теми ее представителями, которые остались в живых после тюрьм и лагерей тридцатых годов. Сейчас я уже мало что помню из того, что тогда говорилось, осталось в памяти только общее впечатление. Позже, когда довелось прочесть Солженицына, Шаламова, Панина, Гинзбург, оказалось, что о многом я слышал в той тюремной камере и позже, в ссылке. Все, сначала непонятное и абсурдное, мой наивный, ничем не перегруженный мозг впитывал, как сухой насос воду. Как такое вообще могло произойти? Не удивительно, если бы все это происходило в средние века с жителями какой-нибудь покоренной страны, с индейцами в Америке, с неграми в Африке, ну, хотя бы с нами в завоеванной, оккупированной стране. Но со своими? С теми, кто сам создавал этот строй и так слепо в него верил! Действительно, слепо верил. Несмотря на все, что с ними сделали. А может быть, делали вид, что верят?
Все эти враги народа, арестованные в 1937, 1938 и 1939 годах (были и из «призыва» двадцатых годов) отсидели свои десять лет (больше десяти в то время не давали. Давали десять или «десять лет без права переписки» - расстрел). Все, пробыв на свободе год-полтора, кому как повезло, снова были арестованы. Их отправляли на поселение, но надолго ли и куда, никто не знал. Эти люди многое повидали, исколесили чуть не весь Советский Союз, побывали в десятках тюрем огромного архипелага ГУЛАГ, повидали немало чудес, поэтому воспринимали свой арест как нечто само собой разумеющееся и неизбежное. Жизнь каждого из них была настоящий роман. Жаль, что я запомнил мало имен. Только некоторые, тех людей, с которыми более тесно общался, с кем подружился. Одним из них был Сергей Симан. Вообще-то его звали Де Симон. Предки его были французы, осевшие в России еще во времена Наполеона. Очень хороший, интеллигентный человек, инженер. Остроумный и, вопреки обстоятельствам, веселый. Сидел он в основном на Колыме, освободился в 1947 году. Семья жила в Москве, но ему в Москве жить было запрещено. Обосновался он в каком-то подмосковном городке и иногда приезжал к семье.
Был среди них и офицер красной армии в высоких чинах Крылов, участник гражданской войны, кавалер нескольких орденов Красного Знамени и еще каких-то наград, один из немногих, награжденных какой-то «золотой саблей». Человек мрачный и молчаливый, но ко мне он относился хорошо. Рассказывал, что воевал вместе с латышами.
Петров, инженер-механик из Астрахани. Бывший чемпион по скоростному бегу на коньках. Веселый, шумный человек. Когда он вошел в нашу камеру, казалось, один всю ее заполнил. Петров был арестован несколько месяцев назад, побывал в Астраханской тюрьме, по дороге еще в нескольких, и «урки» его как следует обработали, но об этом он говорил со смехом. На Петрове был свитер, на несколько размеров меньше, чем надо, брюки чуть ниже колен, на ногах «утильтапочки» - тапки, пошитые из разноцветных кусочков кожи. С Петровым мы подолгу разговаривали. Он рассказывал, что в Астраханской тюрьме, в старом ханском дворце, он еще во время войны сидел с латышами, но многие из них были расстреляны в первые же годы войны. (Как я узнал впоследствии, там был расстрелян и Александр Грине.)
Подружился я с молодым журналистом из Москвы, евреем. Среди «повторников» было очень много евреев. И не только в Московской тюрьме, но и вообще среди русских интеллигентов, которых мне довелось встречать в разное время и в разных местах Сибири. Из сравнительно молодых помню многих комсомольских функционеров. Помню секретаря ЦК комсомола Украины.
Немало было армян из Армянской советской республики, очень интеллигентных и образованных. Я и позднее, в ссылке сталкивался со многими армянами и с тех пор испытываю симпатию и уважение к этому народу. Они разговаривали со своими соотечественниками из Ирана и рассказывали нам об их судьбе. Прожившие всю жизнь в Иране, те ни слова не знали по-русски. Сидели кучкой и перебирали четки. У кого-то настоящие - черные, говорили, что из черного дуба или из какого-то другого ценного дерева. У кого-то тяжелые, из камней. Еще у кого-то из хлебного мякиша, настоящие в тюрьме отняли «урки». Еще больше отягощало их положение абсолютное незнание русского языка. Репатриированные армяне были не единственными, кому это доставляло дополнительные трудности и неприятности и в тюрьме, и в ссылке. Над теми, кто сколько-нибудь знал язык, но говорил с акцентом, издевались. И не только в тюрьме. Так было и в ссылке, я сам испытал это на собственной шкуре не только в быту, но и на официальном уровне. И даже не будь физического геноцида других народов, навязывание другим своего языка разве своего рода не порабощение? Уничижительное отношение к другим языкам, нежелание их учить как более примитивные - это тоже проявление русского шовинизма.
Большинство «повторников» были люди солидного возраста. Помню народного комиссара. Бывшего, конечно. Позже я слышал, что он умер на барже, на Енисее.
О каком-то хромом и глухом старике говорили, что он бывший начальник штаба знаменитого Щорса, а в царской армии - генерал. Старик был всегда мрачен, ни с кем не разговаривал. Он умер во время долгого путешествия. Большинство моих сокамерников были убежденными коммунистами, и, кажется, они не притворялись, но, по всему было видно, Сталина боготворили немногие из них. Люди интеллигентные, обладавшие высоким интеллектом, они не могли после всего пережитого не понимать, что на самом деле происходит в их партии и стране. Но веру в идею они не утратили. Идея, по их мнению, была верной.
Как-то вечером мы с Крыловым стояли у окна и смотрели на московские огни. Вдали мерцали красные звезды Кремлевских башен. Указывая пальцем на Кремль, Крылов сказал: «Припомнишь мои слова! Как только этот подлец сдохнет, все мы будем свободны. Жаль только, что многих из нас он переживет». Действительно, не все мои товарищи по камере дожили до смерти Сталина. Многих сломили прежние тюрьмы и лагеря, и вторичный арест довершил начатое.
И хотя боготворивших Сталина среди них, возможно, не было, однако тех, кто оправдывал его политику, хватало. Существовала даже такая точка зрения - если среди сотен невиновных есть хоть один виновный, враг, то и уничтожение вместе с ним и остальных - невиновных - оправданно. А вот с этим я никак не мог согласиться. Мне с моим шестиклассным образованием трудно было спорить с обучавшимися (околпаченными) в высших партийных школах умными людьми, но и полным дураком я не был. В Сибири мне посчастливилось общаться с образованными, интеллигентными людьми, к тому же много читал, в Риге читал Достоевского, и я напомнил им о слезе ребенка, которой не стоит ни одна идея. Но они, как и все коммунисты, черпали из всех мудростей мира только то, что им подходило. Таких было немного, может быть даже, они так не думали, просто не забывали о том, что «и стены имеют уши». Так что острые политические споры не возникали, озвучивались только собственные мысли, догадки, версии. Когда я начинал слишком уж горячиться, Симанис дергал меня за рукав...
Отсидевший пятнадцать лет в русских лагерях русский ученый и писатель Дмитрий Панин в своей книге «Лубянка - Экибастуз» пишет: «Среди нас были зэки посадки 1937-38 годов. (..) Когда говорят о посадках 1937-38 годов, имеют в виду, главным образом, партийных бонз и всяких чиновников, проводивших до этого «генеральную линию» партии во всех областях жизни. (..)
Но немало лагерников урожая тех лет, посаженных за партийную принадлежность, оставались верными, как они говорили, своим идеям. Беспартийных они презирали и ненавидели. Жили они в атмосфере предательства, созданной ими самими. Разговаривать с ними было опасно; большинство было тесно связано с оперуполномоченными. Каждый из них считал себя невиновным, жертвой ситуации. Они уверяли, что все закономерно, партия не ошибается, лес рубят -щепки летят... Если вызвали бы любого из них и сказали: «Произошла ошибка, органы разобрались, ты не виновен, будешь освобожден и восстановлен в правах, только партия требует, чтобы ты поработал следователем или шпионом», - то они согласились бы немедленно и приступили бы ретиво, с сознанием собственной правоты (..)».
Далее Панин пишет: «Заключенные, объединенные своей принадлежностью к партии, делились на две группы. Еще в этапных камерах Бутырок в Москве мимо нас за четыре месяца прошла значительная вереница бывших коммунистов. Большинство вызывало симпатию, немногие - резкое отвращение. Первые проклинали Сталина, а немногие из них признавали даже свою вину перед народом. Вторые изображали из себя сталинистов и плели омерзительную ложь.
Первые почти не уцелели: в лагерях я встретил всего несколько человек этого типа. Все остальные бывшие партийные работники принадлежали ко второму разряду».
Так пишет Панин. Но и мне довелось встречать как одних, так и других. Только первых, к счастью, было в десятки раз больше. А может быть, мне просто повезло? Как всегда.
Война закончилась совсем недавно, и в разговорах часто всплывала военная тема. И тут все были единодушны, отмечая несомненные заслуги Сталина в исходе войны. Единодушны были те, кто говорил об этом. Но многие, когда поднималась эта тема, молчали. Любые возражения могли обернуться неприятностями. О Сталине или хорошо, или ничего. Как о покойнике.
В камере были и те, кому довелось и немного повоевать - в штрафных батальонах в промежутках между отсидками в тюрьме. Они о войне говорили неохотно. Только позже, уже в ссылке, я много узнал о штрафных батальонах, о заградительных отрядах, которые стреляли в спину своим, и о многом другом, о чем не упоминалось в книгах.
Тем не менее, все они были патриотами своей страны. (И, кажется, в этом не притворялись.) Пересказывали эпизод, происшедший во время войны. К лагерю, который не успели вовремя эвакуировать, приближались немецкие войска. Политзаключенные разоружили охрану, которая собиралась бежать, отбили немцев, затем с боями отступили и, дойдя до своих, заявили о себе органам внутренних дел в надежде, что им простят «грехи» и разрешат воевать. Но их еще раз осудили за побег, и всех отправили на Колыму добывать золото. Было такое или не было? Возможно, это была специально сочиненная легенда, как популярная в среде уголовников сказочка о карманнике, который украл бумажник, но, поняв, что украл у шпиона, отнес бумажник в милицию, и так шпион был разоблачен. А вор награжден орденом. Эта сказка пользовалась огромной популярностью среди уголовников и, скорее всего, была специально придумана, чтобы подчеркнуть превосходство уголовных элементов над политическими, подчеркнуть лояльность «урок» к государству. Это превосходство подчеркивалось во всех тюрьмах и лагерях. Уголовников использовали для деморализации остального контингента мест заключения. Большинство сотрудников лагерей и вообще функционеров чека были субъекты с криминальным прошлым. Не я один пришел к такому выводу. Об этом часто говорили в тюрьме, а потом и в ссылке. Все мои новые знакомые были лагерники, а в местах заключения о прошлом своих начальников обычно знали все. Было просто удивительно, как при столь строгой изоляции от внешнего мира распространялась такая информация.
Заключенным победа не принесла ничего хорошего, только умножила их число. Процитирую еще несколько мыслей Дмитрия Панина об альтернативном варианте исхода войны: (..) констатация грубого просчета США и Англии, которые должны были уничтожить обе деспотии, но вместо этого сокрушили только одну из них, укрепляя, благодаря своей помощи, другую, еще более опасную.
Двадцать миллионов заключенных были той грозной силой, которая решила бы эту задачу. Для этого США должны были взять на себя дальневосточную, колымскую, сибирскую группы лагерей и флотом оказать помощь Англии, которой одной, без опорной точки в Северной Европе, трудно было бы справиться с задачей обслуживания североевропейских, а также уральских лагерей. (..) Следовало забросить (..) в управления главных лагерей группы парашютистов с достаточными на первых порах запасами легкого вооружения, боеприпасов и продовольствия. Приземлившись, десантники заявляют: - режим Сталина свергнут; - объявляем вас солдатами временного русского правительства и берем на себя командование. Для вооружения этой армии у США и Англии оружия хватило бы.
Такую мысль высказал русский интеллигент, диссидент Дмитрий Панин. Утопия? Отнюдь! В лагерях была масса людей, имевших зуб на Сталина и власть коммунистов вообще, тем более после войны. Панин даже высказывает мысль, что если бы Гитлер не относился так жестоко к военнопленным, исход войны мог быть иным. Но у фашизма, возможной победой которого людей пугают по-прежнему, так или иначе век был бы короткий.
Книга Дмитрия Панина «Лубянка - Экибастуз» вышла в США в 1974 году, в 1991 году и в Москве. Панина высоко ценил Солженицын, именно Панин стал прототипом заключенного Сологдина, одного из героев романа «В круге первом». Панин много лет провел в Вятлаге.
В камере я был самый младший, и относились ко мне все, как к сыну. Не знаю, чем я вызывал их симпатии и доверие. Может быть, потому, что у многих дома остались семьи. Лет десять, двенадцать назад они потеряли их в первый раз, и, обретя на некоторое время, потеряли вновь. Кое у кого сыновья были моего возраста, например, у Симаниса и у Крылова.
Старики рассказывали случаи из своей тюремной и лагерной жизни. Я пополнял свои знания о тюремных законах и «блатном» мире. Многое узнал о прошлой жизни в Москве и Ленинграде, как в советские, так и в царские времена. Я догадывался, что были среди них представители старой интеллигенции, аристократии. Что это действительно так, я убедился позже, в ссылке, когда стали больше доверять друг другу, да и условия были другие. Их очень интересовала жизнь в «буржуазной» Латвии. В камере московской тюрьмы началось мое политическое образование. Я узнал, как надо переделать мир, чтобы все были счастливы. Теоретически. С тем, как это происходит на практике, я знакомился на собственной шкуре на протяжении последних девяти лет.
По инициативе Петрова мы проводили спортивные соревнования, насколько позволяли тюремные условия. Перетягивались на пальцах, ломались на руках. В то время я был очень силен, и в перетягивании на пальцах был почти сильнее всех. С удовольствием играли в старую арестантскую игру, когда двое, лежа на полу, сцепившись ногами, пытаются перекинуть друг друга через голову.
Несколько раз в неделю небольшими группами нас выводили на прогулку в тюремный двор. Иногда выводили всю камеру вниз, на большой двор. Мы шагали по кругу, руки за спиной. С четырех сторон нас окружали стены многоэтажной тюрьмы с сотнями забранных решетками, прикрытыми железными намордниками окон. Посреди двора под деревянным грибом стоял «попка», или «вертухай» - охранник.
Пару раз небольшими группами нас водили на площадку, расположенную на крыше. Там был душ, и в жару можно было ополоснуться. Вокруг высились гладкие стены трехметровой высоты. Дворик был перекрыт металлической сеткой. Часто вместе с нами прогуливались блатные, «Индия», как называли их мои старики, очевидно, из-за татуировки. А разрисованы они были страшно. На теле не оставалось ни кусочка свободного пространства. Чего там только не было! От самой невероятнейшей порнографии в самых невероятных местах до самых настоящих многокрасочных художественных произведений - копий картин известных художников.
В один прекрасный день в камеру вошли офицеры с охапками картонных папок и стали вызывать нас по фамилии. Назовут фамилию, и каждый должен скороговоркой произнести имя и отчество, статью и параграф закона, на сколько лет осужден. Все мои сокамерники выкрикивали свою пятьдесят восьмую с ее пунктами и подпунктами, кому что досталось. У некоторых было по три-четыре пункта, кое у кого по десять, но были и такие, кто заработал все четырнадцать.
Ни мне, ни Вестерману кроме имени и отчества выкрикивать было нечего, даже фамилия одна, а не как у некоторых уголовников: Иванов, он же Петров, он же Сидоров, он же... и т.д.!
Мы покинули камеру с кремлевскими звездами в окнах и, сопровождаемые охранниками с собаками, вышли через тюремные ворота.
«Шаг вправо, шаг влево - считается побегом, конвой стреляет без предупреждения!» - прозвучала обычная команда.
Пока мы сидели в камере, была отличная погода, а сейчас дул холодный ветер и моросил мелкий осенний дождь. Нас привели к железнодорожным путям. По другую сторону находился призывной пункт, тоже огороженный, только забор был ниже и без колючей проволоки. Из окон своей камеры мы видели и слышали, как призывники, взобравшись на забор, дразнили стерегущих нас с пулеметами на вышках «попок».
В старой России симпатии простого народа всегда были на стороне арестантов. Когда-то в Сибири возле крайних деревенских домов каждую ночь выставляли кринку молока и хлеб для сбежавших каторжников. В советские времена делать это было опасно. В тюрьмах уже сидели не обычные арестанты, а предатели родины, враги народа, контрреволюционеры, фашисты. О какой жалости можно говорить в отношении этих людей? Кто жалеет врага - сам враг. Несчастный русский народ за годы коммунистического режима был так оболванен и запуган, что утратил свою настоящую сущность и превратился в массу ненавидящих все без разбору, злых людей. Во всяком случае, большин-ство. А может, и не большинство. Плохое всегда на виду.
Когда нас вели вдоль забора, призывники бросали нам пачки папирос и махорки. Конвой ругался. Ребята тоже ругались и дразнились. Конвой грозил им автоматами. Цирк! Нас отогнали от забора и поставили на колени в грязь. Так мы стояли, под дождем, в грязи, руки за спиной, несколько часов, пока нас и призывников не разделил состав с четырехосными пульмановскими вагонами, такими же, как в 1941 году. Нас загнали в вагоны, и двери закрылись. Вагоны стояли на путях всю ночь. А утром...
Не знаю, как родственники моих товарищей по камере узнали, что нас отправляют, но утром наши вагоны оказались в окружении толпы женщин. Крики, плач. Все искали своих. Конвоиры ругались. Отгонять женщин было бесполезно. Глубоко в память врезалось мне это московское утро. Сколько слез снова было пролито на всей громадной территории Российской империи в конце сороковых годов! Сколько сердец не выдержало этого удара! Все, кому посчастливилось выжить в тюрьмах и лагерях, снова арестованы. Мало было слез и крови!
В тридцатые годы были разлучены миллионы семей. Большинство навсегда. Многие жены, избежавшие ареста, отреклись от своих мужей. Многие делали это ради детей. И детей заставляли отречься от своих родителей. Женщины, отказавшиеся подчиниться, подвергались дискриминации, многих постигла судьба их мужей. Существовали специальные «лагеря жен изменников родины». У женщин отнимали детей. И отправляли их в специальные детские дома, которые мало чем отличались от лагерей.
Когда спустя годы, после войны, люди нашли друг друга, когда были восстановлены многие семьи или созданы новые, все снова было порушено, уничтожено. Похоронены все надежды. Ходили слухи, что людей вывезут из Москвы и расстреляют. В Российской империи бывало всякое, и ничему не следовало удивляться.
В годы правления коммунистов русский народ страшно пострадал, но я еще раз хочу подчеркнуть, что это не освобождает его от вины за тот урон, который выпестованный им коммунизм нанес другим народам.
В то туманное московское утро мне вспомнилось 14 июня 1941 года, эшелон на станции Крустпилс. Только толпа провожающих была тогда молчаливой и спокойной. Лились тихие слезы. Никто не знал, что нас ждет. Никому и в голову не приходило, что в первую же зиму будут загублены почти все мужчины, что не одного-единственного ребенка, не одного старика и больного закопают в пути где-то на обочине, и они так и не доберутся до места, где их ждала полная отчаяния жизнь, а многих - могила в вечной мерзлоте. Но тогда еще теплилась надежда.
Сейчас никто не питал никаких надежд. Ни те, кто находился в зарешеченных
вагонах, ни провожающие. Были готовы к самому худшему. Потому и эмоции били
через край. К тому же ментальность русского народа это не уравновешенная,
сдержанная ментальность латышей. В Москве звучали такие ругательства, проклятья
и стенанья, что это утро осталось в памяти навсегда.
Меня никто не провожал. Даже если бы мои московские родственники знали, что я
нахожусь в Москве, вряд ли у кого-то из них хватило смелости оказаться среди
провожающих. Мне было себя жаль. Ужасно. По щекам катились слезы...
Нас везли на восток. В вагоне те же, кто сидел в камере. На поворотах через забранные решетками окна был виден хвост длинного состава. В конце каждого второго вагона стояла будка с пулеметом. Часто, стуча сапогами, по крышам вагонов бежали солдаты. Несколько раз в день поезд останавливался в открытом поле и охранники ходили вдоль вагонов, стуча молотками по стенам. Лезли под вагоны, проверяли, не прогрыз ли кто дырку в полу. Ежедневно арестантов пересчитывали. Поезд останавливался. Раздавались крики «Проверка!». Все мы бросались в конец вагона. Открывается дверь. Перед ней солдаты с собаками. Если дело происходило ночью, то и с прожекторами. Двое заходили в вагон. И нам по одному надо было бежать в другой конец вагона. Солдаты пересчитывали бегущих арестантов.
Мне эти пробежки никаких трудностей не доставляли. Я мог даже перепрыгнуть с одних верхних нар на другие, но кое- кому, кто не мог быстро передвигаться, не раз доставалось прикладом автомата по ребрам. Неоднократно такое случалось с уже упоминавшимся бывшим начальником штаба Щорса и некоторыми старыми армянами. Бывало, считавшие ошибутся, и все приходилось начинать сначала. Почему эта процедура проводилась в такой спешке? Чтобы запугать? Лишний раз на-помнить, что мы для них скотина?
Ни супами, ни кашами нас в пути не баловали. Выдавали сухой паек. Иногда в сопровождении конвоя мы ходили на вокзал за кипятком.
Ехали бесконечно долго. Наступила осень, ночи стали холодные. Всю дорогу продолжалось мое политическое образование. Жизнь каждого моего спутника была как настоящий роман, только с трагическим и непонятным, ничем не объяснимым концом. Многие из них участвовали в Гражданской войне, потом закончили вузы, некоторые даже несколько факультетов. Многие занимали в свое время высокие должности, а конец - Колыма, Воркута, Норильск, Амур (не было только никого, кто сидел в Вятлаге), и вот снова Сибирь. Кое-кто пытался найти во всем происходившем некую логику, оправдать.
Под влиянием общения в тюрьме и на этапах, а позднее в ссылке в Игарке и в геологических экспедициях с интеллигентными, образованными и симпатичными бывшими членами партии большевиков во мне вызрело убеждение, что несчастная коммунистическая партия со своими благородными идеями равенства подвергается преследованиям со стороны руководимых реакционными, преступными силами органов безопасности, что все происходящее - цепь ошибок, которые рано или поздно будут поняты и устранены, что будут восста-новлены «ленинские нормы». После знаменитого 20-го съезда партии, осудившего культ личности Сталина, в первые годы так называемой оттепели, это убеждение окрепло. И должно было пройти еще немало времени, прежде чем я осознал, что преследованию подвергалась не партия и не партия и народ едины, а государственные органы внутренних дел и органы безопасности под руководством высших партийных бонз все годы господства коммунистической власти вели ожесточенную войну против народа. Лишь спустя много лет я понял, что все репрессии - это не каприз одного или нескольких маньяков, а политика партийного руководства. Только благодаря непрерывным репрессиям, непрекращающемуся запугиванию народа, уничтожению интеллигенции могла столько лет просуществовать коммунистическая партия и сформированная ею Система. Понял, что мудрый и добрый Ленин - миф, сказка, ложь.
Не знаю, было ли это притворство, продиктованное обстоятельствами, или подлинные убеждения моих спутников - если партия, мол, в конце концов сама придет к власти, все будет совершенно иначе, - или они и себе боялись признаться, что все, за что они сражались в молодости, во что верили, просто блеф. Признаться в этом даже самим себе было слишком тяжело. А произнести открыто - опасно.
И мозги латышского паренька с шестью классами образования, случайно оказавшегося в обществе умных, образованных людей, подверглись сильному «припудриванию».
Рассказывают, что вернувшегося из кругосветного путешествия на корабле «Бигль» Чарльза Дарвина не узнал родной отец, так изменилась форма головы сына от обилия полученной им во время путешествия информации. Форма моей головы от полученной в тюрьме информации не изменилась, но, добравшись до Игарки, где находилась мама, поседел я до неузнаваемости. Правда, до этого было еще далеко. Путешествие еще не закончилось. И я не раз пожалел, что не поехал сам, что согласился отправиться по этапу. Согласился не столько из-за неимения средств, сколько из любопытства, из жажды приключений. К тому же я надеялся, что если я сам изъявил желание сесть в тюрьму, то и отношение ко мне будет соответствующее. Но, оказавшись в тюрьме, я понял, что, как и все, я больше не человек, я просто никто. И мне стало стыдно, что я надеялся попасть в привилегированную касту, как вольноопределяющиеся в царской армии. Ведь в тюрьмах было полно людей, чья вина была не больше моей.
Красноярск встретил нас удивительной сибирской осенью и «черными воронами». Поездка в тюрьму была незабываемой. В фургон нас заталкивали пинками, матом и ударами прикладов. Я на кого-то навалился, на меня тоже. Машину бросало и швыряло. В кромешной тьме слышны были только проклятья и ругательства. Это был венец всего происходящего.
Красноярская тюрьма построена более ста лет назад, кажется, еще во времена Екатерины Великой. Стены такие толстые, что в оконных проемах можно было спать. Тюрьма состояла из двух корпусов - внешнего и внутреннего. Очевидно, построена она была по принципу древних крепостей - если враг займет внешние стены, остается внутренний замок - цитадель. И сбежать из внутреннего корпуса, похоже, было невозможно. Внутренний корпус, если не ошибаюсь, трехэтажный. Посередине этого квадратного корпуса площадка для прогулок. Внутренний корпус по периметру опоясывал двухэтажный внешний корпус. Пространство между корпусами шириной около десяти метров тоже использовалось для прогулок. Не исключено, что в описании тюрьмы я в чем-то ошибся. Возможно, в числе этажей. Прошло слишком много времени. И смотрел я на тюрьму не с высоты птичьего полета. Но глубоко в память врезалось все, что со мной происходило и что я испытывал в тюрьме.
Вначале всех нас согнали в большую, набитую арестантами камеру. Оказавшись в огромном помещении с низким сводчатым потолком, опирающимся на мощные колонны, я вспомнил «Мертвый дом» Достоевского.
В тот же вечер нас с Вестерманом вызвали. Мне страшно не хотелось расставаться с людьми, с которыми я сдружился, рядом с которыми мне было надежно, в безопасности. Слова «не хотелось» выражают лишь сотую долю пережитого в те минуты. Это было отчаяние. Я уже достаточно наслушался жутких историй о преступном мире. О мире, в котором царят свои, неприемлемые для нормального человека законы. Но разве же и за тюремными решетками в советской империи не царили то ли волчьи, то ли неведомо каких зверей законы?
Нас долго вели по длинным, еле освещенным коридорам. Потом в какой-то комнате нас так обработали, что мы стали похожи на настоящих арестантов. И не помогли никакие протесты. Нас обрили наголо, вытащили из ботинок шнурки, из штанов вырезали металлические пуговицы и крючки, так что брюки приходилось поддерживать руками, пока кое-как не удалось их скрепить петлями и деревянными затычками. Нас и сфотографировали как настоящих преступников - в анфас и в профиль, с номером на груди. К дощечке со сменными номерами были прикреплены металлические крючки, которыми ее цепляли за одежду. Так я стал настоящим преступником. Единственным утешением, больше того - удовлетворением было сознание того, что многие великие мужи это уже однажды пережили. И Ленин, и Сталин. И вероятно, в этой же тюрьме, так как оба были этапированы через Красноярск.
Когда думаешь о том, что ежедневно происходило с миллионами людей в это
незабываемое время, задаешься вопросом: чего больше было в этом идиотизме -
трагизма или комизма. Ведь нельзя же было все это воспринимать всерьез. Все
происходившее в то время напоминало картины Иеронима Босха - нечто
бессмысленное, нереальное, пугающее и в то же время гротескное и комическое.
Соответствующим образом обработанные, поддерживая брюки руками, мы снова
зашагали коридорами. Открылись две- Ри, и мы оказались в камере метров в
тридцать. Вдоль двух стен высились нары из десяти-двенадцатисантиметровых
жердей, отесанных только с одной стороны. Нары были сплошные - от стены до
стены, как на севере в рыбацких избах, а не отдельные двухэтажные, как в Риге и
в Москве. В камере было сносно - на нарах лежало всего человек двадцать. Я
заметил, что справа, возле окна двое лежат на матрасах под толстыми одеялами
(чуть ли не перинами). Я понял, что это «блатные». Первый контакт состоялся
мгновенно. «Блатари» выбрались из своих берлог, и первый вопрос был о масле и
сале. Ни у меня, ни у Вестермана ничего подобного давным-давно не было. Я
вытащил из кармана кисет, набил трубку и бросил кисет на стол. Заспанные «урки»
свернули по цигарке и снова залезли в свои берлоги. Остальные продолжали лежать.
Слева у второго окна, напротив бандитов, было свободное место, которое мы с
Вестерманом и заняли.
Разбудил меня шум. Один из бандитов рылся в моем рюкзаке, который лежал у меня
в ногах. Это меня не тронуло, так как в рюкзаке ничего ценного не было, кроме
пожелтевшего от частых прожарок белья и еще какого-то барахла. Чемоданы с вещами
я сдал в каптерку - тюремный склад. Для хранения денег сестра пришила потайные
карманы в штанинах брюк. Я до сих пор не могу понять, как удалось мне сохранить
эти деньги до места моего назначения, хотя иногда обыскивали нас очень
тщательно.
Второй бандит схватил Вестермана за грудки, тряс его и требовал отдать деньги.
Спустя годы, когда в Риге я изредка встречал Вестермана, он всегда называл меня своим спасителем, рассказывал моей жене, как я спас его в тюрьме от разбойников. Он, конечно, преувеличивал. О каком спасении может идти речь, когда человек остается один на один с двумя бандитами.
Какой мальчишка в детстве не мечтал о подвигах! Я не был исключением. Но как бы
ни была богата приключениями моя жизнь, героического поступка мне так и не
довелось совершить. А в тюрьме произошло вот что. Оба бандита были ниже меня
ростом. Один был плотный, мускулистый, второй мелкий, худой. Я тогда весил
килограммов восемьдесят, рост 170 см, и лишние килограммы - это были мускулы. Я
понял, что смогу с ними справиться, но находился в очень неудобной позе. Сидел,
скрестив ноги, как турок, а оба были в метре от меня. Но по рассказам моих
бывших сокамерников и Сашиным рассказам я знал, что самое главное - не показать,
что испугался. И мне это удалось. Я знал, что по сути своей никакие они не
смельчаки. Гнев душил меня, и я заорал на того, кто тряс старого Вестермана,
чтобы оставил того в покое, потому что если у него есть что-то, он отдаст по-
хорошему. Бандит отпустил Вестермана, сунул два пальца себе в рот, а потом мне в
глаза. Об этом привычном приеме запугивания я слышал, даже прошел небольшую
тренировку для укрепления психики, и, возможно, инстинктивно этого ждал. Пальцы
бандита остановились в нескольких сантиметрах от моих глаз. Я схватил его пальцы
и сжал изо всех сил, так что он даже присел. Второй бандит бросил мой рюкзак,
вытащил из нар жердь и замахнулся. Тут я испугался. Вот и конец! Сам не знаю,
почему я продолжал спокойно сидеть. Не потому что не испугался, просто не мог из
такой позы мгновенно вскочить. Мало я еще тренировался. Спокойно сидел и
смотрел на нападавших. Возможно, что-то в моем поведении показалось им
угрожающим и многообещающим. Интересно, как это выглядело со стороны. «Урки »
бросили и дубину, и Вестермана, отобрав у него только мешочек с сахаром.
Все это время остальные обитатели камеры спокойно спали, скорее, притворялись,
что спят. Я понял, что от них никакой помощи мне не дождаться. Я снова улегся,
как будто ничего не случилось. Бандиты устроились за столом и принялись захлеб,
посыпая его отобранным сахаром, потом пригласили и меня. Я послал их на три
буквы, а Вестерману посоветовал не спать. Это было излишне, так как он спать и
не собирался. Но я почувствовал, что особенно нам опасаться нечего, так как мое
«отважное» поведение послужило достаточным аргументом, чтобы разбойники оставили
нас в покое. Позже, встречаясь со многими, кому тоже довелось попутешествовать
по российским тюрьмам, наслушавшись многочисленных рассказов о драках, грабежах,
даже убийствах в тюрьмах, я мог только благодарить Бога, что отделался так
легко. То ли бандиты были слабоваты, то ли мой ангел-хранитель был сильнее.
Остальные обитатели камеры были старики и подростки, все с Западной Украины, с
бывших польских территорий, как сами они говорили - «из-пид Пильши». В компании
шести-семи украинцев и двух русских «урок» мы с Вестерманом прожили около
недели.
Бандит, угрожавший выколоть мне глаза, был мрачен и молчалив. Второй был совсем
другой. Не закрывая рта, он рассказывал о своих приключениях. Рассказывал
интересно, увлеченно. Вероятно, и привирал, но что-то определенно было правдой.
Но это было неважно. Многое в его рассказах, если не большая часть, отпугивало,
нормальный мозг многое не мог переварить, но рассказчик он был хороший, обладал
неплохими актерскими данными. Он не только рассказывал, но еще и изображал
события, жестикулируя и расхаживая по камере и даже по нарам.
В десять вечера отбой, в камере должно быть тихо. Оставалась гореть только слабая дежурная лампочка. Обычно рассказ к этому времени еще продолжался, только уже полушепотом. Как-то вечером, когда наш рассказчик умолк, в двери открылось окошко, и охранник попросил рассказать еще что-нибудь. Так что и он каждый вечер слушал за дверью невероятные приключения нашего сокамерника.
Если не считать нескольких дней в московском изоляторе и поездки в столыпинском вагоне из Риги в Москву, только в Крас-ноярской тюрьме я по-настоящему столкнулся с преступным миром, с так называемыми ворами в законе, как называли себя наши разбойники. Из их рассказов, поведения, общения между собой передо мной предстал мир, о котором до этого я знал только понаслышке, только то, что рассказывали товарищи по московской тюрьме да рижский коллега Саша. Я никогда всему рассказанному Сашей не верил. Не верил и в то, что он сидел в одной тюрьме со знаменитым позднее Александром Матросо- вым, который закрыл своим телом амбразуру немецкого дзота, а был таким же «уркой». Но впоследствии из других источников я слышал, что Матросов служил в штрафном батальоне и не по своей воле бросился на амбразуру. Старая истина - подвиг одного человека это почти всегда результат безответственности, ошибки или даже преступления другого.
После всего, что мне довелось пережить и услышать в тюрьмах, узнать в ссылке, непосредственно сталкиваясь с самими бандитами и с теми, чье место должно было быть рядом с ними, я не верю в сказки о том, что этих субъектов можно перевоспитать и они станут полезными для общества. Советская система исправительных учреждений исполняла лишь Функции мести общества, никаких исправительных функций она знать не знала. И, похоже, ничто не изменилось вплоть до сегодняшнего дня.
После каждого приема пищи где-то в дальнем конце коридора раздавался выдрессированный хор детских голосов: «Спасибо! Поели!» Что это были за дети?..
Можно представить, какое воспитание могли дать молодым людям, возможно, по глупости совершившим первое преступление, закоренелые уголовники с их рассказами о собственных «геройских» поступках, какие я слышал в своей тюремной камере. Рассказы о головокружительных оргиях между отсидками, о «дамах» в ваннах с шампанским, об изнасилованиях, убийствах, о проигранных в карты жизнях, перерезанных глотках, выколотых глазах, отрезанных головах, о том, как избежать этапа и оказаться в больнице, причинив себе увечье, и о многих других еще более страшных вещах. В московской тюрьме на моих глазах уголовник, которого вели по лестнице с заложенными за спину руками в наручниках, головой разбил стекло, так что кровь брызнула во все стороны. Но какие бы ни были наши бандиты, нас с Вестерманом они больше не трогали. Стариков и парней «из-пид Пильши» время от времени дергали. Когда бандитам становилось скучно, устраивали им строевые учения. Заставляли шагать по камере и пр. Каждый день надо было мыть пол. Делали это старики и ребята. Ни оба бандита, ни я, ни Вестерман к этому руку не приложили. Не мучила ли меня совесть? Ничуть. Когда в первую ночь бандиты напали на нас, никто и ухом не повел. Очевидно, они были запуганы. Все вместе этих двух «урок» мы могли бы «по стене размазать».
Как-то ночью нас разбудил стук в дверь и крики «С вещами на выход!» И снова - «Шаг влево, шаг вправо считается побег, конвой стреляет без предупреждения!»
Едва рассвело, когда по трапу мы поднялись на палубу пас-сажирского судна «Мария Ульянова», названного в честь сестры Ленина. По крутой лестнице спустились в трюм. Это был старый пароход с огромными гребными колесами. Позже я узнал, что в царские времена назывался он «Святой Николай» и на нем Ленина везли в Шушенское, в ссылку.
Зимой 1990 года в Красноярске, куда я был приглашен на торжественное открытие Красноярского латышского культурного общества, я побывал на пароходе, который стоит теперь на якоре у набережной. Пароход снова называется «Св. Николай». Напрасно искал я памятную табличку, что на этом пароходе в 1949 году доставлен на север повторно отбывать наказание опасный государственный преступник - Илмар Кнагис...
В грузовом трюме было достаточно чисто и сухо. В углу стояла параша. Вместе со мной и Вестерманом ехали и оба уголовника и несколько украинцев. К огромной радости Вестермана в грузовой трюм спустились и его жена и дочери. Они тоже ничего не знали о главе семейства, и радость встречи описать невозможно. Неужели была нужда подвергать людей моральным пыткам? Устроились все в углу за какими-то тюками.
Мы представления не имели, куда нас везут. Иллюминаторов в помещении не было.
На палубу некоторые из нас попадали раз в день, в темноте, когда ходили вылить
за борт содержимое параши. Однажды я по звездам понял, что мы плывем на север.
Ориентироваться по звездам еще в детстве научил меня отец, когда-то в Щучьем я
поразил своими познаниями в астрономии более образованных Аустру и Веру, не
говоря уже о Дзидре и Янке в Сопочке. Мы с отцом часто разглядывали звездное
небо. Он рассказывал мне о далеких звездах и планетах. О далеких.
чужих, возможно, обитаемых мирах. Я умел находить созвездия, планеты, по звездам определять страны света.
Дней через пять-шесть, когда пароход в очередной раз пришвартовался к берегу, вызвали меня и одного из «блатных» - великого рассказчика. Не помню его имени, но я называл его «артистом». Место, где нас высадили, называлось Туруханск. Встретил нас комендант. Он забрал у конвоя папки с нашими документами и сказал, что сейчас мы можем идти куда хотим, но чтобы завтра явились в комендатуру. Я был просто в отчаянии. Всего в трехстах километрах севернее, куда уплыл пароход с остальными арестантами, была Игарка, где жила мама и куда должны были доставить меня. А высадили в Туруханске. Хотя я как бы добровольно согласился пойти в тюрьму и вернуться в ссылку. Комендант только посмеялся - неужто мне все еще нужна мама? Мол, и тут я найду себе «бабу».
Мы поднимались по крутому обрыву вместе с комендантом. Это был один из тех случаев, когда моя рука не дрогнула бы, нажимая на курок...
Наступил вечер. Ночь мы провели в комендатуре, спали на полу в коридоре.
Назавтра был регистрационный день - ссыльные пришли в комендатуру за очередной отметкой в своем «волчьем паспорте». Встретили они меня с восторгом и устроили в доме, где уже жили две латышские семьи. Я надеялся, что это ненадолго, ведь мне надо было попасть в Игарку. Тут же написал прошение коменданту и письмо маме, чтобы и она со своей стороны что-то предприняла.
Первый день посвятил осмотру города, если место это можно было назвать городом. «Артист», который остался жить в комендатуре, в пустой, предназначенной для арестантов камере, ходил за мной, как собачонка. В тюрьме он был большим человеком, там был его настоящий дом, а оказавшись на свободе, да еще на самом краю света, в незнакомой обстановке, он, похоже, чувствовал себя как Миклухо-Маклай среди папуасов.
Было воскресенье, и мы отправились на базар. Как на любом послевоенном базаре,
люди торговали всякой рухлядью, старой одеждой и пр. Какой-то старичок продавал
охотничье ружье. Я осмотрел его, заглянул в ствол, а когда вернул ружье старику,
не нашел рядом своего «пажа». Уходя с базара, услышал крики - у кого-то что-то
украли. Возле мостика через речушку недалеко от базара меня поджидал «артист» со
старой солдатской гимнастеркой под мышкой, только что украденной на базаре. Я
спросил, что он собирается делать с этой старой выгоревшей тряпкой. «Артист»
осмотрел свою добычу и швырнул ее под мост.
Через несколько дней я начал работать на рыбозаводе плотником. Пилил доски, как
когда-то в Плахино с немцем Андреем. Мой товарищ по тюрьме работать и не
собирался: «вера» не позволяла. Статус вора в законе.
Когда к набережной Туруханска причаливало какое-нибудь судно, местные бегом бежали на берег с молоком, пирогами, рыбой и другой снедью, какая уж была в этом забытом Богом месте. Набережная превращалась в настоящий базар. Пассажиры высыпали на берег, чтобы купить еду. Однажды и мой «артист» в это время спустился к реке. Покрутившись в толпе, он вернулся с пачкой денег за пазухой. Предложил деньги и мне, но когда я отказался, не очень и обиделся. Сказал, что он сюда не ехал работать. Пока у «фраеров» (то есть у простых смертных, не у воров) есть деньги, деньги будут и у него. Но вообще-то он ходил несколько обескураженный. В короткие промежутки между отсидками он жил в Москве, где было у кого и что воровать, а в Туруханске единственным местом был базар на набережной - и то во время стоянки редких судов. Еще в тюрьме он рассказывал, что когда через Москву гнали тысячи взятых в плен под Сталинградом солдат, ему удалось опустошить сотни карманов и сумочек в толпе любопытных москвичей.
«Дружбой» своей «артист» обременял меня не очень долго. Через некоторое время его отправили дальше на север, в Ку- рейку. Комендант, очевидно, сообразил, что подобный субъект в Туруханске может доставить ему больше неприятностей, чем в крохотной Курейке.
Давным-давно, за несколько лет до большевистского переворота на берег в
Туруханске были доставлены Свердлов и Сталин. Виссарионович через некоторое
время был сослан, как и мой «урка», в Курейку. Возможно, по той же причине - с
глаз долой. Царским жандармам тоже хотелось жить спокойно.
Сегодняшний путешественник, выйдя на туруханский берег, напрасно будет искать
здесь следы ссыльных тридцатых- сороковых годов. Ничто больше не напоминает о
событиях тех лет, кроме нескольких поросших дерном могилок. Что-то, вероятно,
помнят еще местные жители. А может быть, еще и сейчас здесь живет сын Сталина, о
котором я упоминал в своих рассказах о Носовом? Я слышал, что гиды,
сопровождающие группы туристов в плавании по Енисею, упоминают о сыне Сталина.
Откровенно говоря, когда я писал об этом, мне и самому эта легенда казалась
недостоверной. Прошло столько лет! Но как сейчас я помню увиденную в те дни
фотографию сына Сталина, к тому же воспоминания моего тогдашнего сотоварища по
охоте Модриса Рубениса (он сейчас живет в Звейниекциемсе) абсолютно совпадают с
моими.
Во времена «Николая Кровавого» жизнь политических ссыльных сильно отличалась от жизни ссыльных в сталинские времена. Главное отличие заключалось в самом принципе. В царские времена ссыльные ведь были друзья народа, боролись за его освобождение. А мы были «враги народа», у нас не было никаких оправданий, мы не могли надеяться ни на какое сочувствие со стороны народа. Когда-то я прочел изданную в Латвии в тридцатые годы книгу латышского революционера 1905 года Лейтиса «В сибирской ссылке». Лейтис описывал жизнь политических ссыльных в Якутии в начале столетия. Он пишет, что царское правительство платило ссыльным пособие, достаточно большое, чтобы они могли не работать. Это пособие в какой-то степени способствовало деградации части ссыльных. Работали только те, кто сами хотели. Рыбачили, охотились ради собственного удовольствия, изучали иностранные языки, писали. А многие махнули на все рукой, погрузились в апатию, пили. Спирт, как и все прочее, был сказочно дешев. Ссылку выдерживали только нравственно сильные люди. Те же, кто предавался пьянству, деградировали и для революции были потеряны. Еще Лейтис писал, что умный, хитрый Столыпин все это предусмотрел, поэтому и платил ссыльным такое большое пособие. В правительстве Сталина, видно, не было таких умных голов, были одни «мясники», садисты, которые не могли придумать ничего умнее, кроме пыток голодом и обыкновенного убийства. Запомнилась мне иллюстрация из книги о декабристах. На иллюстрации - это была литография - была изображена группа декабристов в тюремной камере. Все стены камеры заставлены книжными полками. На удобных стульях за столом сидит группа хорошо одетых арестантов, один, жестикулируя, читает книгу.
Интересны воспоминания Надежды Крупской о ссылке в Шушенском. Крупская пишет, что в селе все было баснословно дешево, что Ленину за его восемь рублей пособия сдали хорошую комнату, кормили его, стирали и чинили белье. Каждую неделю, чтобы кормить ссыльного, резали барана и еще покупали мясо у соседей на котлеты. Каждый день были блины и молоко для Ленина и его собаки Женьки. Крупская пишет: «В общем, ссылка прошла неплохо. Это были годы учебы».
Как видно, есть разница между ссылкой в царские и советские времена. Но и для нас ссылка была временем учебы. Мы учились выживать, узнавали людей, народы, страну. Учились любить и учились ненавидеть.
В Туруханске я прожил около месяца. Жил довольно весело. Было здесь несколько красивых латышских девушек. Ватагой ходили на танцы, меся грязь. Поздней осенью я получил разрешение переехать к матери в Игарку. Навигация уже закончилась, Енисей начал замерзать. Запоздалое рыболовецкое суденышко, так называемый мотобот, на котором я отправился в путь, село на мель и вмерзло в лед. Последние десять-пятнадцать километров с небольшими приключениями я проделал пешком.
Жизнь в Игарке в те годы била ключом. Второй год продолжалось строительство так называемой «Стройки № 503» - Великой Трансполярной железнодорожной магистрали. Тогда мы еще не знали, что это будет последняя сталинская «Великая Стройка Коммунизма» - «лебединая песня» Сталина.
Игарка. Первенец индустриализации Севера. В 1929 году на берег здесь высадили первые тысячи строителей - семьи «кулаков» из средней части Сибири. Уже осенью первый завод начал выпускать продукцию - пиломатериалы. В Игарку сплавляли бревна из верховьев и притоков Енисея - из Ангары, Под- каменной Тунгуски и других рек. В Игарку по-прежнему шли караваны барж с «белыми рабами», чтобы заменить тех, кто нашел место последнего успокоения в вечной мерзлоте. Тысячи несчастных лежат в земле Игарки. Не на старых кладбищах, потому что старые кладбища уничтожены. Половина города построена на старых местах захоронения, на костях русских крестьян. В России таких городов много.
А город рос. Каждое лето вначале десятки, потом сотни океанских судов шли к Игарке и вниз по Енисею, в Северный Ледовитый океан с лесоматериалами. Большая часть их шла на экспорт. Миллионы кубометров.
В 1949 году лесная промышленность отступила на второй план. Приоритетом стало «Северное управление», стройка № 503. Об этой железной дороге и до сих пор общество знает очень мало, поэтому, думаю, будет нелишним посвятить страницу этой последней, возможно, самой грандиозной, но, очевидно, и самой идиотской стройке сталинских лет.
План был грандиозный. Железная дорога должна была дублировать Великий Северный морской путь, который в те годы был не очень надежным, недостаточно освоен и действовал нерегулярно.
Весной 1947 года от железнодорожной магистрали Воркута-Котлас стали строить ветку на восток, через Уральские горы до Лабытнанги на левом берегу Оби. От расположенного на противоположном берегу Салехарда, пересекая болотистую тундру Ямало-Ненецкого национального округа, магистраль должна была дойти до Енисея. Точно на Полярном круге, в Ермаково, железная дорога должна была пересечь Енисей. Отсюда одна ветка шла на Игарку и дальше к Норильску, а главная магистраль - дальше на восток по долинам Нижней Тунгуски, Вилюя, Алдана и Индигирки, через Колыму и Чукотку. Конечная цель - Берингов пролив.
В грандиозности проекта можно убедиться, взглянув на карту. А о его идиотизме может судить только тот, кому знакомы эти места и условия и кто помнит технику той эпохи. Я столь подробно останавливаюсь на этой железной дороге не только потому, что с ней связаны мои жизненные перипетии, но и потому, что кости многих латышей лежат под ее шпалами. Следует сказать, что строительство было столь тщательно замаскировано, что многие заключенные даже не знали, где они находятся. Уже в годы Атмоды я встретился с немногими, кому посчастливилось оттуда вернуться, и они сами не знали, что за железную дорогу они строили, и только из их рассказов, описаний мест, названий рек можно было понять, что они принимали участие в строительстве грандиозной Трансполярной магистрали.
Такая железная дорога России действительно была нужна, и, возможно, через каких-нибудь сто или пятьдесят лет такую дорогу начнут строить, но замышлять и начинать такую стройку, когда половина Европейской части России лежала в развалинах, когда люди голодали, ходили в обносках, когда десятки миллионов трудоспособных людей погибли на полях сражений и в лагерях, да еще при том техническом уровне, - это был идиотизм, не говоря уж о географии, геологических, климатических и прочих условиях. А самым главным непреодолимым препятствием была одна из величайших загадок природы - вечная мерзлота.
Первое звено магистрали - от железной дороги Воркута- Котлас до Енисея - имело протяженность около 1400 километров. Трасса шла через пояс вечной мерзлоты, по тундре, болотам, через шесть больших рек и сотни малых речушек и ручейков, через тучи мошкары летом и леденящую изморозь зимой.
Для строительства дороги требовалась дешевая рабочая сила, и затихшая было на несколько лет охота на людей вновь возобновилась в 1948 году. На протяжении всей трасы через каждые семь-десять километров находился лагерь на полторы- две тысячи заключенных и двести-четыреста человек охраны. Единственная механизация - лом, мотыга, лопата, тачка. Друг за другом, плечом к плечу по всей длине трассы. Как в Древнем Египте на строительстве пирамид. Щебень везли с полярного Урала, где его добывали десятки тысяч арестантов. На трассе существовали так называемые «режлаги» и «кандалаги» - режимные лагеря с особо тяжелым режимом, и лагеря, где работали каторжники в кандалах.
Западный участок трассы, к востоку от станции Чум, назывался «Стройка № 501» (в народе говорили «пять сотен плачут, один смеется»), от Игарки на запад - «Стройка № 503» («пятьсот веселая»).
Ни предварительного проекта, ни сметы не было. Исследование трассы, проектирование и строительство велись одновременно. В финансах, по указанию Сталина и Берии, ограничений не было. Все переговоры, команды и требования велись напрямую с Кремлем. Например: «Срочно пришлите десять «зеленых»!» И уже через несколько дней самолетом доставлены десять специалистов какой-нибудь отрасли. На десять лет. Через пару дней затребованы пятнадцать «коричневых», и прилетают пятнадцать специалистов соответствующей отрасли. И тоже на десять лет.
Меня, конечно, никто по прямой связи со Сталиным не затребовал. Просто я оказался лишним в той Латвии, которая под руководством коммунистической партии шагала навстречу «светлому будущему». И вот через несколько месяцев мытарств я оказался в Игарке, столице стройки № 503.
Мама пребывала в отчаянии, пока не получила моего письма из Туруханска. Пока я сидел в красноярской тюрьме в обществе занимательных уголовников, мои товарищи по московской тюрьме были доставлены в Игарку. Симон и Попов тут же направились по данному мною адресу в уверенности, что я уже там. Можно себе представить мамину тревогу - я исчез. Может быть, меня расстреляли? Может быть, в тюрьме убили уголовники? Мое письмо из Туруханска она получила спустя несколько недель после того, как у нее побывали мои друзья.
Началась моя жизнь в Игарке. От тундры и тайги меня частично спасло то обстоятельство, что мама жила в Игарке и болела, а также нужда Северного управления в рабочих - не только в заключенных, но и в таких, как я, которых не надо было охранять с винтовкой. Мои тюремные товарищи уже работали, они и помогли мне устроиться сантехником. В этом деле я ничего не смыслил, хотя в Риге работал в канализационном хозяйстве. Умел только копать канавы да вычерпывать дерьмо. Умел, конечно, обращаться с топором, но плотников-арестантов на строительстве хватало. Наступила зима. Я окончил курсы кочегаров и стал работать в Северном управлении.
Игарка кишмя кишела ссыльными и арестантами. На восточной окраине города за высоким дощатым забором, увенчанным колючей проволокой, раскинулась огромная территория лагерей. Главный контингент их - политические. Очень много было тех, кого перевели сюда прямо из немецких концлагерей, военнопленных, власовцев, бандеровцев. Было много простых колхозников. За несколько килограммов картофеля или зерна в те годы давали пять, иной раз десять лет. Многие сидели на основании закона «о колосьях», который в народе называли «семь восьмых», так как он был принят 07.08.32. Великие стройки коммунизма нуждались в дешевой рабочей силе. После отбытия наказания надежды уехать отсюда почти не было. Оставляли жить на поселении. «Чистый» тюремный срок давали редко. Добавляли обычно поражение в правах года на три или на пять.
Кого тут только не было! Говорили, что театр в Игарке в те годы был не хуже московских и ленинградских, потому что очень многие актеры были именно оттуда. Большинство актеров возили в театр из зоны под конвоем, остальные были ссыльные. В больницах большая часть врачей были арестанты. Врачи работали даже санитарами. Высланный профессор медицины Эдуард Шурпе первое время работал в больнице лаборантом. В ресторане господа распивали водку под звуки скрипки или мандолины профессора Ленинградской консерватории Цыбульника. Когда я в 1950 году поступил в вечернюю школу, физику и математику нам преподавал профессор Московского университета Греков, который приехал сюда не как ссыльный, а к своей жене, проведшей долгие годы в лагере, а затем сосланной в Игарку.
Сколько людей, столько и судеб. Разве это они заслужили? Возможно, были среди них и такие. Если судить из нашего сегодня. Разве мало жизней было на совести того же Крылова или штабного начальника Щорса? На совести тех, кто оправдывал гибель сотен невиновных ради уничтожения одного виноватого?
Профессор Шурпе был одним из тех латышских стрелков, которые связали свою судьбу с Красной Россией. В 1919 году, когда в Латвии недолго хозяйничала коммунистическая власть Стучки, Шурпе был председателем Юрмальского ревкома, затем народным комиссаром здравоохранения. Вместе со Стучкой вернулся в Россию, служил где-то на юге военкомом и изучал медицину. Потом работал в медицинском институте, добился славы, уважения и ордена. В тридцатые годы был арестован за то, что якобы организовал крушение правительственного поезда. Через несколько лет был освобожден. В 1940 году Шурпе приехал в Советскую Латвию, где возглавил Балдонский санаторий. Незадолго до войны его вызвали в Москву, арестовали, всю войну он просидел в тюрьме, затем был сослан в Игарку.
Я в то время наслушался массу более или менее вероятных историй. Не каждый хотел вспоминать, не с каждым я был в достаточно близких отношениях. С Шурпе я переписывался и после того, как оба освободились, не раз встречались. Он был таким правоверным коммунистом, что в беседах о партии, о коммунизме не допускал никаких сомнений и колебаний. Мне кажется, что так яростно, так ожесточенно отстаивают идею в том случае, когда сами не совсем уверены в ее безошибочности. Фанатизм, ортодоксальность всегда были и будут негативным явлением. (И в национальном патриотизме тоже.) Ортодоксы марксизма, очевидно, никогда не знали или забыли постулат своего пророка Маркса: «Сомневайся во всем».
Шурпе был хороший врач и, безусловно, яркая личность, но по прошествии лет, вспоминая о нем, все осмысливая, встречаясь с людьми, одержимыми иным «несгибаемым убеждением» (не только коммунистическим), я пришел к выводу, что от них и исходит самое большое зло. Кто-то из знаменитостей, кажется Оноре де Бальзак, сказал, что только дураки не меняют своих убеждений. Шурпе даже мысли не допускал, что происходившее в советской империи и продолжающее происходить - результат ошибки и преступления, совершенного им в молодости, и что большевики вынуждены были оставить Латвию в 1919 году главным образом из-за совершенных ими преступлений. Тогда я еще очень мало знал о тех временах, чтобы вступать в спор с Шурпе. Я не знал (или забыл), что за короткий срок правления Стучки были уничтожены около восьми тысяч человек. Сколько из них было на совести Шурпе?
Шурпе считал, что во всем виноват Сталин и его банда, но когда Шурпе хватил инсульт и одна половина его была парализована, а язык почти не слушался, он все же смог сказать, что не имеет права умирать, пока Сталин не «сдох». Он действительно пережил Сталина лет на пятнадцать. Воля старого коммуниста оказалась настолько сильна, что он сумел победить не только первый, но и второй удар. И еще жениться.
Шурпе был самым востребованным врачом в Игарке. Особенно в дамском обществе. Фанатично пропагандировал витамины и вошедшее тогда в моду средство омоложения организма - новокаин, яростно сражался с никотином. Столь же неистово, как он отстаивал идеи коммунизма, он боролся с курением и особенно подчеркивал влияние курения на сексуальные способности мужчин. Он бравировал тем, что, несмотря на свои годы (ему уже тогда было далеко за шестьдесят), на любовном фронте он намного крепче некоторых молодых мужчин, потому что не курит. Мы смеялись, говорили, что он несчастный человек, потому что хочет и может, но ни одна дама с таким старым хрычом в интимные отношение вступать не собирается.
Шурпе был полон энергии, даже после удара, когда говорил уже с трудом. Он многим нашим помог, советовал, кому и как писать заявление об освобождении, просьбу о возможности перебраться с севера в более теплые края. О реабилитации никто из нас еще и не мечтал. Об этом начали говорить только после смерти Сталина. Но до этого было еще далеко. Недаром каждый прожитый на севере год засчитывался за три, даже за пять лет. Так оно и было. Бесконечно долгими были те годы, когда лето казалось мгновением, а темная зима - бесконечной.
Если не ошибаюсь, Эдуарда Шурпе реабилитировали еще до XX съезда. Восстановили в
партии, назначили персональную пенсию, выделили в московских Черемушках
квартиру, где он провел остаток жизни. Каждое лето Шурпе приезжал в Юрмалу,
отдыхал в одном из санаториев в Лиелупе. Обычно это было в дни, когда
праздновалось «восстановление» советской власти в Латвии. На торжественном
собрании в Юрмале он всегда сидел в президиуме. Ведь когда-то именно в Юрмале он
сражался с «контрой».
Я столь подробно пишу о профессоре Шурпе не только из-за его пестрой,
бессмысленной, но столь характерной для живших в то время в России латышей
биографии, но и потому что этот человек в моей жизни и в жизни моей жены сыграл
большую роль. Но об этом позже.
В Игарке среди ссыльных было много интересных людей. Общение с ними считаю «моими университетами». Все они были жертвами коммунистической системы, которая несколько позднее была названа «культом Сталина». Причем здесь культ Сталина! Не было бы Сталина, был бы кто-то другой. Но истины ради надо сказать, что почти все они сами (в той или иной степени) были виновны в безумии, которым была охвачена Россия, а значит, и в своей собственной судьбе. А насколько велика вина каждого из нас в том, что происходило в Латвии за пятьдесят лет оккупации? Какая доля вины ложится на тех, кто не сопротивляясь, плыл по течению? И сколько было тех, кто плыл против? Но чем дальше те времена, тем больше появляется подобных «героев».
Я часто встречался и близко сошелся с Зеликом Яковлевичем Штейнманом, поэтом и критиком, бывшим заведующим отделом критики и библиографии журнала «Ленинград» (или «Звезда»), который после войны с большим шумом был закрыт. Он был очень интересным человеком, много рассказывал о знаменитостях - о Есенине, Дункан, Маяковском, о многих других. От него я впервые услышал об Ахматовой, Мандельштаме, Цветаевой, слушал стихи запрещенных тогда поэтов в исполнении Зелика. И его собственные экспромты за стаканом спирта: «Где-то виноградниками, миртами берег зеленеет, бьет прибой,/ милый друг, наполним кружки спиртом и по-братски чокнемся с тобой...»
Зелик рассказывал о Соловецком монастыре, о том, как там ночами гудел трактор, чтобы заглушить крики подвергавшихся пыткам и выстрелы. Он рассказывал о «каменных мешках», в которых в советские времена, как в средневековье, держали каторжников. Соловки (СЛОН) были первенцем системы ГУЛАГ. Началом всей системы лагерей.
Экскурсия на Соловки в семидесятые годы стала для меня паломничеством. И эти каменные мешки я видел. В то время, правда, гиды рассказывали только о каторжниках царской России. Даже некий граф Толстой, предок писателя Толстого, сидел в одном из каменных мешков. Но о том, что и советский писатель Алексей Толстой некоторое время находился в Соловках, симпатичная гид рассказать не могла - не знала. Говорить об этом было еще нельзя.
Зелик Штейнман умер в Петербурге в конце шестидесятых годов, за несколько месяцев до того, как я, будучи в командировке в Петербурге, узнал его адрес. Встретился ли он со своей женой Розой, в свое время известной актрисой, которая отказалась от него как от врага народа?
Очень интересной личностью был бывший начальник контрразведки Туркестанского военного округа Александр Михайлович Пятницкий. Арестован он был одновременно с Тухачевским. Пятницкий добывал золото на Колыме, был искалечен в шахтах и в кабинетах следователей, определен на поселение в село Карасино недалеко от Игарки. После освобождения Пятницкий жил в Ташкенте, где когда-то участвовал в боях с басмачами. Несколько раз он приезжал в Ригу, ко мне в гости. Здесь жил и его фронтовой товарищ полковник Андерсон, тоже «герой» сражений с узбеками. Кто знает, сколь велика была вина Александра Михайловича, участвовавшего в акции Тухачевского против крестьян Тамбовской и Тульской областей, в других преступлениях Тухачевского, Якира, Фабрициуса, Смилги и прочих «знаменитых военачальников». Но у меня о нем, как и обо всех репрессированных в сталинские времена советских интеллигентах, с которыми мне довелось общаться, остались самые лучшие воспоминания.
Пятницкий в шестидесятые годы написал воспоминания, но, несмотря на то, что, как выразился он сам, в Центральном комитете у него была «волосатая рука», опубликовать мемуары не удалось. Я читал их в рукописи. Это был увлекательный приключенческий роман, политический детектив. У власти уже была клика Брежнева, и опубликовать нечто подобное надежды не было (скорее всего, как и во времена Хрущева). Ему порекомендовали изменить фамилии партийных работников, следователей, лагерного начальства, переписать страницы, рассказывающие о его «дипломатической» деятельности в Афганистане и Китае, вычеркнуть все негативное в отношении Ворошилова и других «великих». В последнюю нашу встречу, уже в семидесятые годы, Пятницкий сказал, что зарыл свою рукопись, образно выражаясь, «на трехметровую глубину», но убежден, что настанет время, когда такие вещи можно будет публиковать. На что он надеялся? Очевидно, не на то, что система, за которую он так самоотверженно сражался, рухнет. Скорее всего, он надеялся на нечто, похожее на коммунизм с «человеческим лицом». Где сейчас его рукопись? Пятницкий писал под псевдонимом «Печенег».
Вероятно, из моих русских знакомых тех лет, людей умных и интеллигентных, мало кому довелось дождаться этих времен. Не дождался и мой тюремный друг, потомок французских аристократов - Симон. Он всего на год пережил Сталина и лежит сейчас на кладбище в Игарке. В Москве жила его жена, которая отказалась от него еще в тридцатые годы, и двое сыновей, вместе с которыми ему удалось побыть всего несколько лет. В Риге живет вторая жена Симона, латышка, разделившая с ним в Игарке судьбу ссыльного.
Мало осталось их, «врагов народа», «вредителей», «предателей родины»,
«троцкистов», «оппортунистов», «буржуазных националистов», «шпионов» всех
государств и пр.
Каких только жизненных историй я не слышал в те годы! Командир военного корабля,
капитан второго ранга (фамилию не помню) рассказывал, как он ночью был вызван в
чека, где ему задали вопрос, знает ли он, как можно потопить его корабль.
Конечно, знаю, ответил он. «Напишите, пожалуйста», - сказали ему и дали лист
бумаги. Он тут же сел и написал. Ни своего корабля, ни своей семьи он с тех пор
не видел. Десять лет на Колыме, затем «без пересадки» на вечное поселение. За
диверсию.
Жива ли еще маленькая, симпатичная и отважная итальянская коммунистка Тина Клементина Пароди-Перони?Тина рассказывала о знаменитых итальянских режиссерах - Де Сантисе, Феллини, Висконти, Антониони и других, с кем была лично знакома. Пятидесятые годы - победное шествие итальянского неореализма в киноискусстве. После скучных советских и, хоть и интересных, но совершенно оторванных от реальности, приторных западных кинофильмов каждый итальянский фильм был откровением. Помню, с каким восторгом мы, молодежь Игарки, смотрели эти фильмы, а знакомство и возможность беседовать с живой итальянкой - это уже было почти на грани фантастики.
В тридцатые годы Тина работала в Москве, в издательстве «Иностранная литература». В 1938 году была арестована и провела на Колыме десять лет. В это же время режим Муссолини арестовал ее мужа, итальянского коммуниста. Когда муж узнал, что и Тина арестована, он слег с инфарктом и был освобожден из-под ареста (в России ничего подобного произойти не могло). В 1948 году Тину освободили, и она вернулась в Москву. Началась переписка с мужем, она уже собралась в Италию, но была снова арестована и выслана в Игарку. Мужу сообщили, что Тина умерла, и он женился на другой женщине.
После смерти Сталина Тина вернулась в Москву и некоторое время работала на старом месте. Когда муж в Италии узнал, что Тина жива, он развелся, и Тина вернулась к нему в Италию. (Некоторое время она еще переписывалась с Илгой Озолинь из Валки.)
Отважной я назвал Тину из-за одного случая. В Игарке она работала кассиршей в бане. Однажды вечером, когда она возвращалась домой с дневной выручкой и шла через дворы, на нее напал грабитель, попытавшийся вырвать сумочку из рук. Это была обычная хозяйственная сумка с двумя ручками. Тина закричала: «Убьешь - не возьмешь!» Напавший все же сумку из рук вырвал, остались только ручки. Бандит убежал, потому что на помощь Тине уже спешили люди, но она успела сорвать с вора шапку. Через несколько дней по шапке его и нашли, но деньги тот уже успел проиграть в карты.
Утром и вечером через город шли колонны арестантов в сопровождении охраны с собаками. Шли тысячи и тысячи. «Шаг влево, шаг вправо - считается побег!..» Еще немного, и я оказался бы среди них лет на пять за побег из ссылки. Мне посчастливилось избежать этого за счет нескольких месяцев в пересыльных тюрьмах. И всего в трех. Я уже упоминал, что многие мои товарищи по несчастью прошли через пять, а то и семь тюрем. Сидела половина России. Вторая половина находилась всего в нескольких шагах от лагерных ворот, а мы, сосланные, стояли уже на пороге лагеря. Незадолго до моего появления в Игарке арестовали некоторых наших женщин только за то, что они читали какой-то иностранный журнал. Их осудили и отправили в Норильск. Не помню, сколько им дали лет.
Заключенные из других мест отсидки рассказывали, что в лагерях Игарки с одеждой и питанием было лучше, чем у них. В этом была заслуга самого начальника строительства Барабанова. Он часто гонял лагерное начальство за воровство и нечеловечное обращение с заключенными. Предшественник Барабанова говорил заключенным: «Мне не надо, чтобы вы Работали, мне надо, чтобы вы мучились...»
Даже рабовладелец понимал, что только сытый раб на что- то годен. Таких, как Барабанов, скорее всего, было немного.
На трассе магистрали было расположено полтораста-двести лагерей, и в каждом начальник был царь и бог. Маловероятно, что среди них могли быть порядочные люди. Если человек шел на такую работу, то знал, что ему предстоит. В первые же годы коммунистического правления в репрессивные органы шли люди с садистскими наклонностями, и так продолжалось все годы существования власти коммунистов.
Тюрьма есть тюрьма, и лагерь есть лагерь, и так называемые «терпимые условия», о которых говорили, когда шла речь о лагерях Игарки, были понятием относительным. Одним из главных факторов, который превращал любое место заключения в ад, было самоуправство уголовного элемента. Все годы существования Советского Союза воры и бандиты были союзниками сотрудников так называемых «исправительных учреждений» и использовались для того, чтобы физически и морально сломить остальных заключенных и особенно «врагов народа». С ними трудно было совладать. Уголовники были хорошо организованы, и бороться с ними тоже можно было только организованно.
В начале пятидесятых годов в Игарку прислали команду военного корабля Черноморского флота. Возможно, не всю команду, но большую часть наверняка. Моряки за несколько дней буквально выбили всю лагерную «аристократию» - блатных- И только конвой спас их от полного уничтожения. Спустя некоторое время моряков расформировали по лагпунктам, и там уголовники всех по одному перерезали.
Некоторое время я работал в котельной, отапливавшей столярные мастерские. Там делали окна, двери, мебель и все прочее, что необходимо было растущему городу и лагеря^ Мастерские были огорожены высоким дощатым заборов поверху шла колючая проволока. Утром в огороженную зону заводили колонную заключенных - столяров, а после работы тем же порядком уводили в лагерь.
В холода приходилось по нескольку раз за ночь обходить мастерскую и проверять радиаторы отопления и температуру в сушилке для лесоматериалов. Во время одного из таких обходов мне что-то капнуло на нос. Кровь! Из щели в потолке капала кровь. Я вызвал конвой, и на чердаке нашли человека с перерезанным горлом. Голова держалась только на шейных позвонках. Только накануне у него закончился срок и вместе с несколькими такими же он забрался на территорию мастерских переночевать. На чердаке они играли в карты. Игра на жизнь была здесь делом обычным.
В 1948 году в Игарку привезли несколько тысяч литовских «кулаков». Среди них было много стариков и маленьких детей. Большинство умерло в первую же зиму. Литовцы своих мертвых хоронили отдельно, ставили трех-четырехметровые кресты. В 1941 году литовцев в Сибири мы не видели и удивлялись - неужто их не высылали? Оказалось, их отправляли в низовья Лены, на побережье Ледовитого океана, на острова. Это тоже были «хорошие» места.
Умершие в Игарке литовцы все лежат в одном месте. Сейчас это место называется литовским кладбищем. А кости латышей Разбросаны по обоим берегам Енисея от Красноярска до бере- ов Ледовитого океана. И по берегам многих притоков Енисея и окрестных озер, и редко у какой могилы стоит крест.
цам К°НЦе сороковых годов многим латышам, калмыкам и нем- УДалось переселиться с дальних рыбопромыслов в Игарку.
Плахино тоже опустело. Ничего не получилось из попыток создать в Агапитово колхоз. Не всегда удается что-то построить на человеческих костях. Первые колонисты Агапитово, оставшиеся в живых после страшной зимы, уже на следующий год рассеялись кто куда - в Плахино, в Игарку, как кому повезло, лишь бы не зимовать еще раз в этом проклятом месте. Позже в Агапитово перевели присланных из лагерей латышских мужчин, но и они вскоре перебрались в Игарку. Сейчас в Агапитово трудно разыскать хоть какие-то следы, подтверждающие, что здесь жили люди.
Возможность перебраться в город у ссыльных появилась только потому, что городу нужна была рабочая сила. Частично это объяснялось еще и тем, что в Советском Союзе всегда царил хаос, когда левая рука не знала, что творит правая. Уровень образования большинства работников комендатуры был настолько низок, что они были не в состоянии вести строгий учет. Да и большинству ни до чего не было дела. Безделье и чрезмерное употребление алкоголя способствовали полной деградации.
Ссыльные, хоть раз попавшие в черный список, знали, что это навсегда. Где бы они ни находились, чекистский «меч правосудия» всегда висел над их головой. Были случаи, когда ссыльного судили, скажем, за воровство или грабеж, и давали ему лет пять или десять. Человек выходил на свободу со справкой, что отбыл наказание по уголовной статье, уезжал в другое место, надеясь из политического стать уголовником. Напрасные надежды! Его снова находили и таскали по пересылкам как политического. Даже через много лет, когда политические репрессии якобы были подвергнуты осуждению, репрессированные и после реабилитации в глазах сотрудников органов все еще оставались в черном списке. «Ваша реабилитация для всех, но не для нас». Такие слова я сам слышал от чекистов. К тому же от бывших чекистов.
После всего пережитого в годы первой ссылки, после жутких холодов, работы в ледяной воде, после туч мошкары и комаров, голода, полного бесправия и унижения с жизнью в Игарке можно было мириться. Жили мы почти так же, как и все остальные. Причем «остальных» было гораздо меньше, чем нас. В отличие от них, мы дважды в месяц обязаны были регистрироваться в комендатуре, мол, не сбежали. В глазах простых граждан мы уже давно ничем от них не отличались, что бы о нас не говорили. Разницу усматривали только административные органы и, безусловно, работники комендатуры, которые не давали нам забыть, кто мы такие.
Я подружился с некоторыми местными ребятами, вместе ходили на танцы, что было
здесь главным развлечением. Еще кино и театр. Танцевали и в театре во время
антрактов, и между киносеансами. В последние годы правления Сталина были
запрещены танго, фокстрот и другие танцы «развратного Запада». Вместо них играли
так называемые бальные танцы - па-де-катр и па-де-спань. Но в конце вечера
звучала и запрещенная музыка.
Литовцы вначале держались отчужденно, устраивали танцы в своих бараках. Мы и к
ним ходили танцевать. Где-нибудь в углу горит маленькая керосиновая лампочка,
еле-еле освещающая часть помещения, вдоль стен за простынями и одеялами на
двухэтажных нарах, кашляя и тяжело дыша, лежат старушки литовки, а узком пятачке
между нарами танцует и целуется молодежь...
Юность есть юность, где бы ни находился человек - в снежной или в песчаной
пустыне. Была молодость, была дружба, была любовь.
Мы, латыши, часто собирались у кого-нибудь на квартире. Чуть-чуть выпивали,
пели, пели. Выпивкой особенно не увлекались. И не по материальным соображениям -
выпивка, как во все времена в России, была относительной дешевой, - просто не
испытывали потребности в опьянении. В Игарку были сосланы и некоторые легионеры,
которые привезли с собой популярные тогда в Латвии, но запрещенные песни
легионеров.
Число сосланных в Игарку с каждым годом, с каждым при-швартовавшимся в порту судном увеличивалось. Каких только «преступников» не ссылали в Игарку! К пестрой компании, которая обитала здесь с начала войны, присоединились легионеры, выжившие в лагерях офицеры и инструкторы Латвийской армии, представители интеллигенции из оккупированных немцами регионов. Сюда была выслана и жена перешедшего на сторону немцев генерала Власова. Она была уже в годах, но старалась одеваться, как молодая, и красилась, чтобы выглядеть моложе.
А шпионы! Каких только шпионов не было в Игарке!
Американские, английские, японские! И голландские, турецкие, иранские тоже. Был даже один югославский «шпион» - шестнадцатилетний парнишка. Он пастушил. Кто-то заметил в нем талант художника - мальчик из глины лепил фигурки, и его отправили в Москву учиться. Когда между Сталиным и Тито испортились отношения, мальчика сослали в Игарку за шпионаж. У него действительно был талант скульптора. Здесь он посещал кружок рисования, который вела сосланная в Игарку латышская художница Мирдза Кангаре. Какова дальнейшая судьба этого мальчика? Стал ли он скульптором? Сколько их было, молодых, которых вынудили отказаться от своей мечты!
Каждый пароход, каждая новая волна прибывших вносили разнообразие в нашу жизнь. Новые знакомства, новые друзья, новые жизненные истории о войне и тюрьмах. Дружеские отношения складывались и кое с кем из «чистых» граждан.
Всю вторую половину сороковых годов, вплоть до прекращения в пятидесятые годы строительства железной дороги, в Игарке работала геолого-геодезическая экспедиция из Ленинграда, которая исследовала железнодорожную трассу и занималась проектированием. Геологи и другие специалисты были люди интеллигентные и к таким, как мы, относились очень лояльно, хотя считались самой привилегированной кастой.
Один из наших, Лева Рабкин, еврей, единственный в городе умел ремонтировать радиоаппаратуру. Он даже собрал для себя радиоприемник, который принимал заграницу (тюрьма за это была гарантирована).
Лева и геологам ремонтировал радиоаппаратуру. Ленинградцы были людьми свободными, говорили, что хотели, не особенно опасались «скользких» тем и уж тем более в разговорах с нами. Нам они доверяли. Однажды кто-то из них, будучи у Левы дома, рассказал любопытную историю.
Летом 1940 года он и многие ленинградские студенты комсомольцы были привлечены к участию в странном мероприятии. Им выдали первоклассные заграничные костюмы и обувь, после чего отвезли в Ригу. Там, одетые как «лондонские денди», они принимали участие во многих демонстрациях, восхваляющих новую власть. После чего «прикид» отобрали и заставили дать подписку о неразглашении.
История эта могла бы сойти за выдумку, но какой был смысл геологу врать, к тому же рискуя десятью годами свободы?
Впрочем, разве мало в Советском Союзе происходило такого, что здравому уму было просто неподвластно?
Я вспомнил рассказанное геологом в самом начале нашей Атмоды, во время одной из телевизионных передач, в которой принимали участие Ивар Кезберс и Николай Нейландс. Этих господ спросили, знают ли они, что в Риге в демонстрациях 1940 года принимали участие специальные, присланные из России команды. Политические комментаторы со смехом в один голос заявили, что такого ну уж никак не могло быть. Не знаю, что покойному Ивару Кезберсу мог рассказать о тех временах его отец, но уж отец Николая Нейландса мог рассказать своему сыну много интересного о тех днях и событиях, в которых сам принимал деятельное участие. А может быть, постеснялся об этом рассказывать? И вновь я размышляю над тем, какую память о себе оставим мы своим детям и внукам, всему народу. Там же, за памятником двум известным коммунистическим функционерам, первопроходцам советской власти в 1940 году - Жанису Спуре и Янису Нейландсу - лежит моя мама, двадцать лет прожившая в сибирской ссылке. В этой же земле, чуть дальше, всего в каких-нибудь десяти метрах. Поблизости лежит и Оттомар Ошкалнс. Предатели и их жертвы - все в одной земле.
Осенью 1950 года я поступил в седьмой класс вечерней средней школы. Шестой класс я окончил в 1941 году в Екабпилсе. В математике я еще кое-что соображал, но грамматика русского языка для меня была темный лес. Да и латышскую грамматику я уже подзабыл.
О школьной жизни рассказывать можно бесконечно. В те годы учиться заставляли буквально всех, кто занимал самые разные, часто очень высокие должности, но не имел среднего образования. Руководить назначали только что демобилизованных офицеров с партбилетом в кармане, но одно дело командовать ротой или батальоном на войне, и совсем другое - руководить цехом в мирное время. Хочешь не хочешь, а учиться надо.
В начале учебного года классы были заполнены, а к весне оставалась хорошо если треть учеников. Большинство учащихся были так называемые ИТР - инженерно-технические работники. Инженеры, бухгалтеры, милиционеры, диспетчеры аэропорта, капитаны и штурманы речных судов, партработники, даже начальник финотдела города и директор банка. Таких «черных» и к тому же «нерусских», как я, кого никто не заставлял учиться, но кто во что бы то ни стало хотел получить образование, было немного.
Литовской молодежи в школе сначала было мало. Они, как и мы в первые годы ссылки, еще на что-то надеялись. Надеялись, что скоро все изменится, и они будут свободны, так что учиться в русской школе нет никакой надобности. Действительно, с национальной точки зрения, такую позицию литовцев можно было понять и даже приветствовать. Советская школа играла огромную роль в русификации иностранцев и интеграции их в чужую, враждебную среду. Будь хоть малейшая надежда, вера в чудо, которое внезапно изменит нашу судьбу, обучение в школе коммунистов можно было бы на некоторое время отложить. Но надежд никаких не было, и остаться необразованными или не дать детям образования было глупо. Однако многие ссыльные так и не получили образования, но не по своей вине. Условия У всех были разные.
Однако теперь, оглядываясь на жизненные перипетии, которые выпали на долю латышей и литовцев в годы войны и во время правления коммунистов, со стыдом приходится признать, что литовцы проводили, очевидно, более правильную политику. Возможно, потому что не теряли веры, что, к несчастью, произошло с нами. Веры в свободу и Бога.
В 1952 году штаб строительства железной дороги перевели - теперь он находился в ста шестидесяти километрах южнее Игарки, где на Полярном круге строился новый город - Ермакове. В этом месте железная дорога должна была пересечь Енисей и по правобережью дойти до Игарки и далее до Норильска. В Игарку по Северному Ледовитому океану отбуксировали специальный, построенный за границей паром для переправы поездов через реку. Паром назывался «Полярный». Простояв два года в порту Игарки, он отправился обратно в Европу. (Сейчас этот же паром переправляет поезда через Керченский пролив, и называется он «Южный».)
Я должен был выбирать - перебираться в Ермакове и продолжать работать в Северном управлении или оставаться в Игарке и подпасть под сокращение штатов. Я выбрал последнее, так как не хотел прерывать учебу. Я всей душой стремился к знаниям. Учился и читал ночи напролет. Старался наверстать упущенное. Прочел всего Чехова, продрался сквозь Белинского, Чернышевского, Добролюбова. Полистал корифеев марксизма и прочий вздор. Что из всего этого пригодилось в жизни? Из марксизма крохи. Позже, уже в техникуме, изучая основы марксизма- ленинизма и политэкономию, часто думал, неужели я так туп, что не вижу в этих бреднях никакого смысла, никакой логики, что многое приходится заучивать наизусть, так как своими словами пересказать эту галиматью я не мог.
Когда меня уволили из Северного управления, выплатили зарплату за три месяца вперед. В управлении зарплаты были большие, да и «северные» платили и таким, как я. А из-за бухгалтерской ошибки я получил двойную зарплату за несколько месяцев. И я был не единственный. В бухгалтерии работали «командирши», жены лагерных функционеров, «дамочки», мало смыслившие в цифрах. Так что денег у меня появилось много, и я целый месяц лоботрясничал, потакая живущему во мне лентяю. Бродил по окрестностям с красавицами литовками Алдонами, Анжеликами, Ядвигами и Данутами. Лето было жарким. Несколько недель термометр в тени показывал тридцать по Цельсию. От тающей вечной мерзлоты поднимались испарения, и тундра была окутана туманом. От страшной жары и испарений люди болели, появлялись нарывы. Собаки бесились. Единственным спасением была река. Я целыми днями торчал в воде. Думал, что делать дальше. Работать истопником не хотел, хотел что-нибудь поумнее. Мой старый знакомый - Волдемар Либрехтс работал мастером в гараже лесокомбината, он предложил пойти к нему учеником автослесаря. Зарплата была небольшая, но меня интересовали не столько деньги, сколько новая профессия.
Учителем моим был старый литовец Савицкас. Еще и сейчас я вспоминаю его с уважением и благодарностью. Когда я однажды в обед уселся на рабочий-верстак, он отхлестал меня грязной тряпкой, сказав, что на верстаке не сидят, а зарабатывают на хлеб.
В гараже работали почти одни литовцы - шофера, слесари. Только начальник гаража был русский. Он с трудом расписывался, зато воевал и был членом партии. Ни сосланный латыш Либрехтс, имевший высшее образование, ни бывший политзаключенный украинец Иван Платонов, тоже с высшим образованием, не могли претендовать на должность начальника. На комбинате работали в основном латыши, литовцы и немцы. Многие немцы работают там и по сей день. Им некуда было возвращаться: в их родных местах на Волге поселились «старшие братья». Там земля была хорошая, инвентарь, дома - все, что требовалось.
Каждую весну Игарку наводняли завербованные на юге Сибири рабочие, приезжавшие
за «длинным рублем». По большей части это были люмпены - спившиеся,
деградировавшие элементы. Получив деньги, так называемые подъемные,
предназначенные для устройства на новом месте, а сумма была порядочная, они не
успокаивались, пока все не пропивали. Среди них было и немало женщин. Кое-кто из
завербовавшихся, пропив деньги, все-таки начинал работать, другие же образовали
пышный букет из бичей и проституток, как и положено солидному портовому городу.
Как бы ни тяжело жилось нам в Игарке, культура здесь была все же на высоком
уровне. Поддерживали этот уровень жившие в городе и в округе на поселении
политические ссыльные. В клубе работали кружки самодеятельности. Балетный кружок
организовала танцевальная пара Сувориных из Москвы (или Ленинграда). Профессор
Ленинградской консерватории Цыбульник, о котором я упоминал, организовал
самодеятельный ансамбль струнных инструментов. Бывший оперный певец Васильев
занимался с молодыми талантливыми певцами. Ставили сцены из опер. Васильев
сказал, что у меня хороший голос и слух и старался привлечь меня к своим
постановкам. Однажды это ему почти удалось. В сцене дуэли в «Евгении Онегине» я
должен был исполнять роль секунданта Зарецкого и спеть: «Теперь сходитесь!», но
в последний момент у меня не хватило духу спеть эти два слова перед залом. Я
страшно смущался, и Васильеву самому пришлось спеть партию Зарецкого.
Латышская художница Мирдза Кангаре, в начале ссылки похоронившая своего сына, перебралась с рыбопромыслов на дальних озерах в Игарку, работала художником в театре и вела кружок юных художников. Одна из ее воспитанниц, возвратившись в родную Литву, стала известной художницей и всегда с благодарностью вспоминала свою учительницу Кангаре. И не она одна. Кажется, все мы, посещавшие тогда кружок рисования, с благодарностью вспоминаем Мирзду Кангаре, у которой учились не только азам рисования и истории искусств, но и многому тому, что обязан знать каждый, считающий себя интеллигентным человеком.
Мирдза Кангаре в 1941 году завершала учебу в Академии художеств, осталось только защитить дипломную работу, и тут грянуло 14 июня. Когда в конце пятидесятых годов Мирдза вернулась в Ригу, ей с большим трудом удалось восстановиться на третьем курсе Академии. Все тогдашние корифеи латышского искусства приложили максимум усилий, чтобы «врага народа» - вернувшуюся из Сибири вдову замученного в болотах Вятлага священника Яниса Кангарса - как можно дольше не подпускать к искусству. Мирдза Кангаре из тех людей, светлую память о ком я сохраню навсегда.
Каждую осень в Игарку прибывали и молодые специалисты, девушки, окончившие различные учебные заведения, которые, как было заведено в Советском Союзе, должны были отработать три года где-нибудь на окраине империи.
А сколько таких свободных девушек заплатили карьерой за то, что связали свою жизнь с ссыльными! Илмар Узанс женился на молодой красивой прокурорше Ниночке, и ей пришлось расстаться со своей должностью. Преподаватель педагогического техникума Лиля еще до женитьбы, только познакомившись с латышом Леопольдом Барановскисом, вынуждена была оставить работу в техникуме. Слишком светлые были ночи в Игарке, трудно было уберечься от любопытных глаз. За близкие отношения с Платоновым, ссыльным из Харькова, партработника Надю выгнали с работы и исключили из партии. Но они все же поженились. А вот из-за меня не пострадала ни одна девушка. Танцевал со многими, домой провожал сегодня одну, завтра другую. Молодых учительниц Дину и Нину их старшие коллеги предостерегали от дружбы со мной. А я тогда и не думал о женитьбе. По-прежнему не чувствовал опоры под ногами, чтобы связать судьбу девушки со своей судьбой.
Игарка целиком была построена из дерева. И дома, и улицы, и тротуары - все было деревянное. Главные улицы были вымощены толстыми, уложенными в несколько слоев досками. И дорога длиной в несколько километров через топкий Медвежий овраг, деливший Игарку на две части - Старый и Новый город, была построена также. В некоторых местах на улицах были оборудованы специальные места для курения. Скамейка, бочка с водой, ящик с песком. За курение в неположенном месте грозила тюрьма. Даже небольшой пожар мог закончиться гибелью всего города. В среднем течении Енисея, недалеко от города Енисейска, в 1954 году пожар за один день превратил в пепел Маклаковский деревообрабатывающий комбинат и город (сейчас Лесосибирск). Игарка тоже горела, но уже после моего отъезда.
Большинство улиц было из насыпанных опилок, слоем толщиной в несколько метров. Миллионы кубометров опилок. До сих пор не понимаю, почему в Игарке не построили гидролизный или целлюлозный завод или что-то в этом роде для переработки древесных отходов. Когда я снова приехал в Игарку в 1988 году, сразу же почувствовал сильнейший запах гари. Тлела свалка опилок в Волчьем луге. Начало тлеть еще в семидесятые годы, и ликвидировать это было невозможно. Процесс продолжался и в девяностые.
Наступила весна 1953 года. Произошло то, чего так долго ждали и на что надеялись, - умер Сталин. Сдох! (Большинство в Игарке именно так интерпретировало это событие.) У здания управления под репродуктором, из которого с самого утра неслась траурная музыка и наконец прозвучало столь долгожданное сообщение, собралась толпа. Никто не произнес ни слова. Некоторые женщины плакали. Вечером я зашел к своим друзьям - учительницам Дине и Нине. Они сидели заплаканные, понурые, словно настал конец света. Я засмеялся и сказал, что они дуры, что мы только сейчас и начнем жить, что теперь для всех настанет свобода. Девушки набросились на меня с кулаками - как смею я так кощунствовать?
Накануне вечером я зашел к Зелику Штейнману. Он поразил меня, сказав: «Мы здесь
спокойно попиваем чай, а далеко отсюда, в Москве, умирает великий, гениальный
человек!» Я опешил и сказал, что уж передо мной-то ему не следует притворяться.
Зелик приложил палец к губам и махнул головой в сторону дощатой стены, за
которой у плиты возилась его «временная жена». Такие жены были у многих старых
политзаключенных, от которых, как от Зелика и от Де Симона, настоящие жены
отказались. У кого-то была из ссыльных, у кого-то - местная вдова. Когда мы
встретились через несколько дней, Зелик сказал, что своей даме он не доверяет,
хотя она тоже проходила по 58-й статье. Мне он доверял.
Когда я вспоминаю те дни, мне кажется, все время светило солнце. Я, как и большинство вроде меня, был уверен, что все обязательно изменится. И правда, очень скоро все мои знакомые, ветераны 58-й статьи, один за другим стали собираться домой. Все они куда-то кому-то писали и говорили, чтобы и мы писали. Советовали, как и кому писать. Наконец наши послания начинали обретать какой-то смысл.
Знаменитая амнистия, освобождение уголовников - так называемых «пташек Берии» из «клеток», Игарки, слава Богу, кос-нулась очень мало. К тому времени население лагерей Игарки и без того уменьшилось - большинство заключенных перевели в Ермаково на строительство железной дороги. О событиях в Норильске, правда, рассказывали страшные вещи, но продолжалось это недолго. Амнистированных бандитов очень быстро снова засадили, начали выпускать политических.
И некому стало строить железнодорожную магистраль. Начался ее демонтаж, продолжавшийся несколько лет. Строила железную дорогу армия заключенных за миску баланды, а демонтировали свободные граждане. Работало много ссыльных, а им надо было платить. В это время население Игарки выросло за счет политзаключенных, которым тюрьму после смерти Сталина заменили поселением.
Все списывалось. Убрали рельсы. Не все, там, где позволяли условия, и на баржах сплавили по притокам в Енисей и дальше в Норильск. Забирали технику, которую проще было вывезти, прочее списывали, а, как было принято, то, что списали, требовалось уничтожить. Тысячи ватных брюк и ватников уничтожили, тысячи пар совершенно новых кирзовых сапог изрубили топорами.
Трудно представить такую картину: мужик вытаскивает сапог из кучи, укладывает на чурбак и топором - раз! Один удар по носку сапога, второй по голенищу, и сапог летит в другую кучу. Представить трудно, но так было. И происходило это в то время, когда страна не успела еще прийти в себя после войны, когда большая часть народа голодала и ходила в отрепьях.
Ликвидировали и растащили уникальную библиотеку. Где сейчас многочисленные библиотеки НКВД, которые создавались в Советском Союзе из конфискованных у репрессированной интеллигенции книг? Многие книги были с книжными знаками, с факсимиле известных ученых, писателей, артистов, художников. Много книг было уничтожено. Лишь небольшая часть сохранилась и попала в надежные руки. Моему другу Барановскису удалось собрать из таких ценных, можно сказать, исторических книг целую библиотеку. Но большая часть книг была уничтожена. На фоне искалеченных человеческих судеб это была мелочь.
В Ермаково насчитывалось в то время около пятнадцати тысяч жителей, большинство из Игарки. Оперетта, или так называемый Театр музыкальной комедии, тоже переехала в Ермаково. Почти все актеры были заключенные. Рассказывали, что когда режиссеру взбрело в голову, что в новой постановке главную Роль лучше всех сыграет знаменитый ленинградский актер N1, его прислали через несколько дней. На десять лет...
Начальник любой стройки, любого лагеря хотел гордиться своими художественными коллективами, своими актерами, как когда-то помещики своими крепостными актерами.
Старожилы Игарки и сейчас еще помнят романтическую и трагическую историю любви ссыльного художника-декоратора и дочери начальника лагеря. Художника нашли повесившимся (или повешенным) на театральном чердаке. Он действительно был выдающийся художник. Когда поднимался занавес, публика созданные им декорации всегда встречала овациями. (ЗЕЛЕНКОВ Дмитрий Владимирович - прим. редакции сайта)
До марта 1953 года - до смерти Сталина - полностью были готовы около девятисот
километров, или шестьдесят два процента, первого звена запланированной
железнодорожной магистрали - от станции Чум (на трассе Воркута - Котлас) до
Игарки.
Сейчас печально известную дорогу поглотили болота и подтаявшая вечная мерзлота.
Когда с вечной мерзлоты сдирают мох - изоляционный слой, она превращается в
жидкую кашу, в грязь. Спустя тридцать пять лет, в 1990 году я летел на вертолете
над заброшенной трассой, она хорошо просматривалась. И будет видна еще через
сотни лет, потому что тундра не обновляется.
Увезли все, что было можно, но многое осталось. Станционные здания, депо,
водонапорные башни, пустые лагеря, десятки локомотивов, вагонов, сотни
километров рельсовых путей. На трассе продолжали ржаветь тысячи тонн металла.
Прямые потери от строительства магистрали были оценены в 42 миллиарда рублей. А
люди? Те, кто там остался? Не только в «специально отведенных местах» - на
лагерных погостах, но и под шпалами, в железнодорожной насыпи. Какова их цена?
Жизнь человека в Советском Союзе никогда не ценилась.
Из всего, что я теперь знаю о Трансполярной железнодорожной магистрали, в те
годы я не знал и десятой части, хотя работал в Северном управлении. Как и все, я
обязан был дать подписку о неразглашении - никогда ничего не рассказывать о
строительстве железной дороги. Но вряд ли я представлял лакомый кусок для
шпионов или диверсантов - ну какой информацией может владеть простой работяга,
даже если он отапливает здание управления и даже частный дом самого начальника
строительства, знаменитого Барабанова? Большая часть информации мне стала
доступна намного позднее, когда я прошел по этим местам и встретился с теми
немногими, кто оттуда вернулся.
В 1964 году в августовском номере журнала «Новый мир» был опубликован документальный рассказ Александра Побожия «Мертвая дорога». Известный геодезист Побожий в свое время руководил исследовательскими работами на трассе. Шел последний год хрущевской «оттепели», и статью успели напечатать. Вообще «Новый мир» в то время был самым прогрессивным журналом. После этого о железной дороге все дружно молчали, хотя в эти районы было организовано несколько экспедиций. Тема оказалась под запретом. Коммунистическая система старательно скрывала свои бесстыдные дела и преступления. Только в 1985 году появилась небольшая заметка в журнале «Турист» и в 1988 и 1989 годах материал в нескольких номерах газеты «Гудок». Геодезист Н.Симонова писала, что на берегу реки Хеты видела груды скелетов. Скелеты нашли и в железнодорожной насыпи под шпалами.
В 1954 году в Ермаково сносили бульдозером списанные и заброшенные постройки. Просто разбивали одну стену, или Угол дома, или часть крыши, довершить остальное должно было время. Все это происходило на печально знаменитых последних «великих стройках коммунизма» сталинских времен, когда я уже покинул север.
А пока я работал на деревообрабатывающем комбинате в Игарке, ремонтировал автомобильные двигатели и учился в последнем классе вечерней средней школы.
По закону подлости, когда я работал в Северном управлении, которое находилось в Новом городе, вечерняя школа находилась в Старом городе, а когда я перешел работать на комбинат, в Старый город, школу перевели в Новый город. Четыре, самое меньшее три раза в неделю приходилось мерить пять километров туда и обратно. Специальных автобусов не было. Между городами курсировал, к тому же нерегулярно, старый грузовик, кузов которого был накрыт драным брезентом. Дорогу заносило снегом, и машина простаивала, пока бульдозер разгребал снег. Часто приходилось добираться пешком, вер-нее, бежать бегом, сражаясь с ветром, сбивавшим с ног. И так четыре года подряд. Было нелегко. Сейчас, в старости, когда ни на что не хватает времени, диву даешься, как его хватало и на учебу, и на книги, и на девушек. Я любил танцевать. На танцы ходил каждую субботу и воскресенье, иногда и в среду. В детстве сестра научила меня танцевать бостон, и с моей подачи теперь его танцевала вся Игарка. Мама и другие латышские дамы постарше считали, что я школу не окончу, слишком уж легкомысленный.
Большинство учителей к ссыльным относились лояльно, но были и такие, кто позволял себе издеваться над плохим знанием русского языка, над акцентом и не давал забыть, к какой «касте» мы принадлежим. Между прочим, мы, чернорабочие, не имели возможности готовить уроки в рабочее время. У инженеров и бухгалтеров была такая возможность, однако наши успехи были не хуже. Им вообще-то нужен был только документ, а для нас образование было вопросом всей нашей дальнейшей жизни, тем более если ты гражданин второго сорта. Мы к учебе относились совсем иначе. И хотя все мы были люди взрослые, мы списывали, пользовались шпаргалками, подсказками. И я всем этим пользовался без зазрения совести. Мой друг Эдгар Шнейдерс, получив двойку, только стиснет зубы, но никаких подсказок не признавал, не пользовался и шпаргалками. Мое свободное время было занято танцами, время Эдгара - молодой женой. Кто знает, кому было труднее? Если бы я тогда женился, вряд ли сумел бы окончить школу.
Как бы то ни было, но школу я окончил. С переэкзаменовкой по русскому языку - писал сочинение. С грамматикой дело у меня не ладилось. Вряд ли я сумел бы и летом «вытянуть» сочинение на тройку, если бы почти все учителя не уехали в отпуск. Экзамен принимали учительница немецкого языка фрау Триппель, приволжская немка, и упомянутый московский профессор Греков. Они поставили мне за сочинение тройку и выдали аттестат, в котором тройки были еще по конституции и физике. Я окончил среднюю школу. Несмотря на мой легкомысленный образ жизни и пессимистические предсказания тетушек.
Вспоминаю сейчас школьные годы в Игарке, пытаюсь и не могу понять и оправдать тех, у кого были все возможности учиться, но они ими не воспользовались. Какая бы ни была советская власть, после войны получить среднее образование мог почти каждый. Раньше или позже. Но беда в том, что зачастую человек без образования в материальном отношении ничего не терял. Пользовался всеми привилегиями рабочего класса, а если учился и становился инженером, то зарплата была ниже и привилегий никаких. Странно это было. Может быть, учились только дураки? Многие так и думали. И еще не так давно. Кое- кто, кто после падения советской власти жалуется на «тяжелую жизнь», сам в этом виноват. Надо было учиться. Любой ценой! К этому призыву Ленина стоило прислушаться.
К власти пришел Хрущев. Что бы сегодня о нем ни говорили, на мой взгляд, он был единственный в Советском Союзе правитель, который хоть немного думал не только о могуществе партии и государства и собственном престиже, но и о благосостоянии народа и о его будущем. Его главная беда, как мне кажется, заключалась в том, что он, как все идейные коммунисты, как и профессор Шурпе, был убежден в своей правоте до фанатизма и не допускал никаких отступлений от догм. Но самое главное, очевидно, крылось в том, что ему не хватало интеллигентности, не говоря уже о каких-то признаках интеллекта.
До XX съезда партии было еще далеко. В партийных органах и в органах внутренних дел было полно спившихся, деградировавших функционеров, а фундамент, на который они в своей деятельности до сих пор опирались, уже начал шататься.
Осенью 1953 года ко мне на работу пришли первый секретарь горкома комсомола и секретарь комсомольской организации комбината. Знакомы мы были давно, вместе бегали на танцы. Предложили вступить в комсомол. Обещали дать рекомендации. Я об этом уже догадывался, так что их предложение меня не особенно удивило, и ответ мой был готов. Поблагодарил за оказанное мне честь и доверие, но я уже стар для комсомола, к тому же собираюсь уезжать из Игарки. На этом наш разговор закончился.
Жизнь продолжалась без Сталина. Жить стало веселее, появились надежды. Снова стали танцевать фокстрот и танго. Жену Платонова восстановили в партии, жена Леопольда снова вернулась в школу. Мои глупые патриотичные подружки утерли слезы и сопли.
В Игарке забурлила спортивная жизнь. Игроками футбольных команд были в основном латыши и литовцы. В городе началась баскетбольная эра. Этой игры здесь прежде никто не знал. Баскетбол привезли литовцы. Первые годы ссылки литовцы не проявляли активность, но после смерти Сталина постепенно оживали. Литовская молодежь стала посещать школу.
Я занялся тяжелой атлетикой, боксом и спортивной гимнастикой. Зимой ходил на лыжах. В кроссе участвовала половина города. И здесь организаторами стали ссыльные. В лыжных гонках я показывал один из лучших результатов в городе.
Арестанты в Игарке исчезли. Лагеря опустели. На улицах города не видно было больше вечно пьяных ненавистных офицеров и тупых солдат лагерной охраны. Летом 1953 года, когда по Енисею к городу уже подходили первые иностранные суда за лесоматериалами, начальники вдруг опомнились - с реки видны сторожевые вышки опустевших лагерей. Срочно принялись пилить столбы, канатами опрокидывали вышки на землю. Почти десять лет вышки стояли, и никого это не волновало, и вдруг застеснялись иностранцев...
Мама, аботавшая в больнице санитаркой, пользовалась уважением и симпатией врачей, и ей разрешили перебраться на юг по состоянию здоровья. В августе 1954 года на пассажирском дизель-теплоходе «Иосиф Сталин» мы отправились в Красноярск. Это была моя четвертая поездка по Енисею. Самая замечательная и радостная. Только сейчас я смог по- настоящему оценить величие реки, прекрасную дикую при-роду. Не надо было бояться, что кто-то потребует предъявить документы, которых у меня нет, что из-за моего сомнительного вида кто-то будет хвататься за карманы и звать милиционера. Ехал я не в трюме, а, как «белый человек», в пассажирской каюте. И одет был прилично. Штанины прикрывали носки туфель, а тогда это был последний «писк моды». Ехали без охраны, по так называемому «маршрутному листу», специально для таких случаев сочиненному документу. После прибытия на новое место его надлежало предъявить коменданту и встать на учет. Не явишься в назначенное время, объявят тебя во «всесоюзный розыск» со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Почти пять лет я провел в Игарке. Завершился еще один период моей жизни - северный. Покидал я север без ненависти в сердце. Знал, что и меня там никто не будет поминать недобрым словом. Но и не привязывало ничего меня к этому городу. Для многих Игарка стала последним прибежищем на этой земле. Мимо проплывали дикие берега Енисея, места вечного упокоения многих латышей.
Позади осталась первая тысяча километров. Пароход пришвартовался к причалам Енисейска, и к моему большому удивлению в каюту влетела и бросилась мне на шею Ниночка, учительница из Игарки. В Енисейске жили ее родители, и у них Ниночка проводила летние каникулы. Не помню, каким образом она узнала, что я плыву на этом пароходе. Оставалось несколько часов до отплытия. Мы гуляли по набережной, шутили, говорили всякие глупости. Раздался гудок парохода, возвещавший об отплытии. И вдруг две горячие руки обняли меня и Нинины губы приникли к моим губам. Это был прощальный привет севера, города моей юности...
Новым местом поселения был город Канск. Знаменитый город в истории и географии политических ссыльных всех времен. Здесь перекрещивались пути во многие места поселения, да и сам Канск был переполнен ссыльными всех национальностей. Нас с распростертыми объятиями встретили мой друг Лева Юделович и его жена. Они переехали в Канск из Ермаково еще в прошлом году. У Левиной тещи здесь был домишко, и его большая прихожая стала нашим первым местом обитания. В Канске было много латышей. Альфред Васманис, в последние предвоенные годы известный в Латвии баскетболист, еще несколько лет назад перебрался сюда из Игарки. Тесная дружба завязалась с Арием Путнынем. Альфред и Арий организовали баскетбольную команду и вовлекли в нее меня и Леву. Вчетвером мы даже вошли в сборную города. Мои друзья играли великолепно. Я был не очень-то выдающимся баскетболистом. Для баскетбола я был небольшого роста. Но в корзину попадал и с дальнего расстояния. Моя баскетбольная карьера закончилась, когда перед отъездом в Ачинск, на областные соревнования, я упал на тренировке и выбил на руке большой палец. Треснула и кость.
Работы в Канске хватало. Недавно здесь построили громадный текстильный комбинат. Из окрестных сел понаехали тысячи девушек. Когда, бывало, в конце смены вся эта толпа не очень-то обремененных комплексами цивилизации девушек хлынет из ворот комбината, лучше было не попадаться ей на пути...
В другом конце города был построен большой гидролизный завод. Здесь работало и много мужчин, тем не менее, демографическое равновесие это изменило незначительно. Это была общая беда всех новых городов в Советском Союзе. Об этом не думали, исходя из постулата «у нас секса нет».
Гидролизный завод производил все, что органическая химия того времени могла извлечь из поставляемых деревообрабатывающим комбинатом отходов древесины. Одним из главных продуктов был пищевой спирт. В пищевой он, правда, превращался в конце длительного химического процесса. Вначале получали метиловый спирт.
Как и на всех предприятиях Советского Союза, и на Канском гидролизном заводе главным источником доходов многих была не зарплата, а то, что удавалось украсть. Готовую продукцию - пищевой спирт - украсть было трудно, так что воровали «по дороге» - в веренице автоклавов, перегонных аппаратов закрученных в спираль трубок, где метиловый спирт превращался в этиловый. Эта жидкость была уже не смертельной, ее воровали, пили, продавали. Местные называли сивуху «гамира». При частом ее употреблении человек временно терял зрение. Но только временно. Когда прекращали пить, зрение восстанавливалось. Тех, кого слишком мучила жажда, кратковременная потеря зрения не очень тревожила. Безусловно, долго так продолжаться не могло, и в городе ослепли многие. И умирали тоже. Но когда-то все равно придется умереть...
Гамира отвратительно пахла и имела привкус резины - очевидно, причиной были резиновые грелки, в которых ее выносили с завода на груди, на животе или ниже, как когда-то в Куличках наши дамы выносили мешочки с зерном. Но ни вкус, ни запах не отпугивали заядлого пьяницу ни от какого пойла.
Вспоминается, как однажды зимой спирт в Игарке пах керосином. Очевидно, бочки, в которых его привезли, как следует не вымыли. Мужики пили и не жаловались. Другого спирта не было. После выпивки, хочешь не хочешь, несколько дней о «коктейле» напоминала химическая отрыжка. Как однажды в Куличках от овсяной каши. Но тогда я еще не выпивал.
Меня всегда отпугивали большие заводы, и я поступил на работу в Иркутский трест с романтическим названием «Востсибнефтегазгеология», в Канскую экспедицию. (Все оставшиеся до пенсии тридцать два года я хранил верность геологии.)
В Канске, как в последние годы в Игарке, занялся ремонтом двигателей автомобилей и тракторов. У старого литовца Са- вицкаса я прошел хорошую школу и вскоре прослыл неплохим мотористом, так что время от времени и подхалтуривал.
У мамы была давняя мечта - побывать в Ташкенте у родственников. Там жили ее мать, сестра, брат и еще масса родни во втором поколении, мои двоюродные братья и сестры. После многомесячной переписки с областным начальством и даже с Москвой наш комендант все же выдал разрешение и мама с «маршрутным листом» в кармане отправилась в путь. Вернувшись, она с возмущением или, скорее, с сожалением и огорчением рассказывала, что когда она сказала сестре о необходимости получить в органах безопасности отметку о ее прибытии в Ташкент в маршрутном листе, та очень обеспокоилась и не могла скрыть недовольство и страх. Не одной жертве репрессий раньше или позже пришлось столкнуться с отчуждением близких. Пришлось пережить это и мне.
В Канске, как и в Игарке, я часто ходил на танцы. Летом танцевали в парке. Оркестр до полуночи шпарил «Рио-Риту», «Под крышами Парижа», «Брызги шампанского» и русские фокстроты военных лет. Прекрасная юность, которую ничто не могло омрачить! Вокруг танцевальной площадки росли высокие деревья, почти соприкасающиеся вершинами, образуя зеленый купол. Красиво! А если через переплетенье ветвей еще светила луна! Сказочно красиво! Не так, как в Игарке, где танцевальную площадку освещало солнце, и любой мог видеть, где на спине девушки находится твоя рука, и каждая тетушка знала, кого ты сегодня провожал домой. И в Канске были девушки, которые мне нравились, с которыми я танцевал, которых провожал домой, даже знакомился с их мамами, но долгожданная, описанная в книгах любовь как не появлялась, так и не появлялась.
Возможно, в мемуарах допустимо писать обо всем, что с тобой происходило, возможно, нельзя строго судить и за описание некоторых интимных подробностей. И в первом варианте своих воспоминаний я кое-что себе позволял. Речь не о сексе. Эта тема, по-моему, в мемуарах должна быть запретной. Я позволял себе только некоторые лирические, романтические, сентиментальные отступления. Но потом в прессе появились интимные воспоминания некоторых, причем талантливых журналистов, я этого не одобрял и на некоторые описанные мною эпизоды постарался взглянуть как бы со стороны. Есть вещи, события, которые остаются в душе на всю жизнь, и поэты и писатели используют их в своем творчестве. Однако самые возвышенные переживания, изложенные на бумаге, зачастую превращаются в банальность, становятся тривиальными. Нужно иметь большой талант, чтобы этого не случилось. «Что дозволено Юпитеру, не дозволено быку». Если такой «бык» откровенно излагает свои чувства, в лучшем случае, это может вызвать смех, в худшем - отвращение. И все же расскажу немного о своих переживаниях и чувствах так, чтобы это не задело достоинство других.
Откуда-то, кажется, с Урала в Канск, возможно, за свою красоту, была выслана
девушка по имени Роза. Ни Брижит Бардо, ни Мерилин Монро не могли с ней
сравниться. Афродита! Венера! Как сказал начальник экспедиции Литасов: «Венера
не Венера, но что-то венерическое!» Розочка устроилась на работу к нам в
экспедицию счетоводом. На радость всей мужской половине. Все были в восторге.
Когда Роза шла из конторы в туалет, который находился далеко, в конце второго
двора, все шофера и слесари бросали работу и жадными глазами провожали
очаровательное создание. Она «плыла», почти всегда напевая себе под нос
чрезвычайно популярную тогда «Бе-са-ме, бе-са-ме му-чо...», песня доносилась и
из туалета. О Розином искусстве секса рассказывали легенды. Понаблюдав за
девушкой некоторое время, я решил рискнуть. Пригласил в кино и пошел проводить
домой. С бутылкой «Розового ликера» в кармане. Был поздний вечер, и я сказал,
что домой идти мне совсем не хочется. Поставил бутылку на стол, Роза нарезала
краковскую колбасу и хлеб. Мать Розы стелила постель. Колбаса была нарезана
толстыми кружками. В те годы это была настоящая краковская колбаса, как и
положено, с крупными кусочками сала. Роза брала кружок колбасы и своими острыми
крашеными ноготками выковыривала из него кусочки сала, складывая их в кучку, -
сало она не любит. Глоток ликера застрял у меня на полпути между горлом и
желудком. Я схватил пальто и шапку и пустился наутек. «Счастье было так
близко...»
И тут наступил момент, когда я уже не задумывался о том, прочно ли стою на ногах
и насколько я вольная птица. Из дальней геологической партии на собрание,
посвященное 7 ноября, приехала красивая, стильная геолог Лида. Она сидела в
президиуме на сцене - как секретарь собрания. Я в засаленной спецовке стоял у
дверей в конце зала. Наши взгляды встретились...
Через месяц мы сыграли свадьбу. Возможно, это произошло бы не столь быстро, но мы были поставлены перед выбором - сейчас или никогда. Наша экспедиция, как это часто случалось в геологии, подлежала ликвидации, и всех распределяли по разным экспедициям и партиям. Учитывая сибирские расстояния, трудности общения, мой статус «врага народа», у нашей любви будущего не было. Единственный выход - немедленно расписаться. Говорят, жениться по любви с первого взгляда все равно, что запрыгнуть в трамвай, а потом выяснить номер трамвая. Если это и так, должен сказать, что, несмотря на любовную горячку, мне все же удалось запрыгнуть в трамвай нужного маршрута.
Управляющий трестом Карасев, узнав о случившемся, сказал: «Лида с ума сошла, что ли, выходит замуж за арестанта?» Да, в глазах народа мы уже давно не были врагами народа, но для высшей администрации, партийных и советских функционеров, для великорусских шовинистов мы были и остались ими. Что было причиной, что - следствием? Функционеры так считали потому, что сидели «наверху», или занимали высокие должности благодаря своим взглядам?
Свадьба была хоть куда. На весь трест прогремела. Однако из-за свадьбы чуть не случилась серьезная неприятность. В Та- сеево, село, куда мы должны были перебраться после свадьбы, 10 декабря мы должны были приступить к бурению перспективной трехкилометровой скважины. А вся команда во главе с начальником экспедиции Литасовым и главным геологом Фуксом явилась на свадьбу. Пили девятого, пили десятого. Начали бурение только двенадцатого декабря. Тот, кто помнит еще те времена, поймет, что за такой проступок начальники могли лишиться партбилета. Скандал был жуткий. Сообщил руководству треста о случившемся главный «стукач» - начальник отдела кадров, в придачу и партийный секретарь. Маленький, плюгавый человечек с лысой, блестящей, как бильярдный шар, головой. Долго он в экспедиции не удержался. Ребята поймали его на «баловстве» с козой, и он мгновенно исчез, и в тресте его тоже больше не видели. Вот и говори после этого, что в Советском Союзе не было секса!
Продолжались мои скитания в геологических экспедициях вместе с женой, матерью и тещей по Красноярскому краю и Иркутской области. Десятки сел и городов, местечек, не имевших названия. Канск,Тасеево, Мурма, Шеломки, Канарай - места с экзотическими названиями, одно другого красивее, в прямом и переносном смысле. Сотни километров по дорогам, где автомашина вязла до осей, по бездорожью, по горам, усыпанным лилиями, тюльпанами и ирисами. Тайга, речные каньоны, как в американских ковбойских фильмах, постоянная смена мест и условий, встречи с самыми разными людьми. И всюду были латыши. В Сибири было полно латышей. Только странствуя по сибирским селам, можно было понять, сколько латышей было втянуто в водоворот репрессий. Были и другие репрессированные народы, были репрессированные русские еще из «призыва» тридцатых годов. Но русские все-таки были У себя на родине, в России (если Сибирь вообще Россия). И если русские думают, что они больше других пострадали от коммунистического режима (это, вероятно, именно так), все же не надо забывать, что все, что с ними случилось, случилось в их собственной стране, в России, а не на чужбине, как происходило с другими народами.
Что бы ни случалось со мной в жизни, все-таки я считаю, что мне везло. Главным
образом потому, что всегда, особенно в самые трудные минуты, рядом со мной были
хорошие люди. Так было в годы первой ссылки, так было и в те несколько месяцев,
что я находился в Риге, так было в тюрьме, потом в ссылке в Игарке. И о тех
людях, с которыми я работал в геологических экспедициях, у меня остались самые
лучшие воспоминания. Из-за специфики своей профессии они побывали во многих
местах Советского Союза и знали о жизни народа не из газет, книг и речей
партийных функционеров, а из собственного опыта, знали такой, какая она есть.
Это были нормально мыслящие люди, так что с точки зрения официальной их почти
всех можно было причислить к инакомыслящим или, иначе, к «диссидентам» (в те
годы этого понятия в нашей лексике еще не существовало). С ними я чувствовал
себя как равный среди равных, хотя большинство из них были членами партии. Но
никакого коммунистического фанатизма (идиотизма), какой можно было наблюдать
после войны среди латышских коммунистов, в них не было. Принадлежность к партии
нужна была в основном для того, чтобы устранить препятствия при восхождении по
обычной карьерной лестнице. И если человек был не русский, а, предположим,
еврей, то без членства в партии в будущем ему ничего не светило.
К неудовольствию великорусских шовинистов, которые время от времени вспоминают
черносотенный лозунг царских, и не только царских, времен «Бей жидов, спасай
Россию!», большинство сибирских геологов были евреи. Не знаю, как сейчас, но в
те годы, если бы все евреи вдруг уехали из Сибири, геологоразведка всего региона
просто рухнула бы. Не говоря уж о геофизике, где работали одни евреи, потому что
там нужны умные головы.
Работа в геологических партиях и годы, прожитые в Игарке, где у меня было много
друзей среди евреев, резко поменяли мое отношение к этому народу, которое,
откровенно говоря, после оккупации Латвии в 1940 году было достаточно
негативным, как и у большинства латышей, причем не без вины самих евреев.
Каждый народ прежде всего должен оглянуться на себя, оценить то доброе, что
сделал, и то зло, которое причинил. И евреи в том числе. И латыши. Но в первую
очередь сделать это должен великий, «самый мудрый, самый доброжелательный, самый
талантливый, самый... самый... самый и т.д.» русский народ.
Тасеево, куда мы попали сразу же после свадьбы, было большое село, районный центр. Регион был знаменит тем, что в годы Гражданской войны здесь велись ожесточенные бои между партизанами и Колчаком. Во всех окрестных селах стояли обелиски павшим партизанам. Крестьяне тогда покинули свои дома и вместе с семьями и скотом укрывались в тайге. Еще при нас кое-где в тайге можно было наткнуться на партизанские землянки. Изгнав Колчака, партизаны не захотели признавать и центральную - советскую - власть, а решили быть хозяевами на своей собственной земле и образовали «Тасеевскую Республику». Номер, конечно, не прошел, и за это многие бывшие партизаны дорого заплатили тогда же, в двадцатые годы, а затем вторично - в тридцатые. Не помогли ни бывшие заслуги, ни ордена.
Появление геологической экспедиции вносило в однообразную жизнь окрестных сел
большое оживление. В экспедиции работало много молодых ребят, и не одна девушка
нашла, наконец, свое долгожданное счастье. Да и кое-кто из местных парней
оставлял трактор или комбайн и начинал жить романтичной и хорошо оплачиваемой
жизнью бродяги в геологической экспедиции.
Состав рабочих в нашей экспедиции был донельзя пестрым. Было много бывших зеков
- заключенных и ссыльных разных категорий. Неутихающее веселье в тасеевском
обществе вызвала «дружба» отбывшего срок уголовника, шофера экспедиции Толика
Веломестнова с вдовой бывшего первого секретаря Тасеевского райкома. Когда наш
Толик по воскресеньям под руку с дамой в «аристократическом», с серым
каракулевым воротником пальто своего предшественника и в белых бурках (так в
Сибири одевалась вся партийная и советская номенклатура того времени),
встречные кланялись и приветствовали Толика: «Доброго здоровья, Иван
Матвеевич!». Это был настоящий цирк.
В Тасеево и окрестных селах осело много сосланных еще в 1941 году латышей. Кое-кто был доставлен сюда и в 1949 году, но в основном в Омск и в Амурскую область. Однажды произошел курьезный случай. Вдова широко известного в свое время в Латвии депутата Сейма, социал-демократа К., высланная в 1941 году, случайно встретила в Тасеево одного из нанятых ею в сельский дом работников. В 1940 году, при дележе национализированной у бывшего депутата земли, ему был выделен надел. Счастливый новохозяин в 1949 году теперь уже как кулак был выслан втотжеТассевский район. Когда госпожа К. с гордостью показывала ему побеленную своими руками комнату, бывший работник сказал: «Не кажется ли вам, мадам, что ваши лошади жили когда-то в лучших условиях?»
Наступил 1956 год и знаменитый XX съезд партии. Это было что-то невероятное, граничащее с фантастикой. Почти то же самое, как за три года до этого смерть Сталина. Вероятно, нигде происходившее на съезде не было воспринято с таким восторгом, так эмоционально, как в Сибири, где трудно было найти человека, который бы сам, или его родители, близкие или дальние родственники не пострадали от разоблаченного и осужденного XX съездом так называемого культа личности Сталина. Наконец- то справедливость восторжествовала! Как в сказке!
Но после съезда должно было пройти немало времени, чтобы люди привыкли к тому, что можно разговаривать без опаски, что за одно случайно вырвавшееся слово тебя не потащат в чека. Во всяком случае, Сталина и его время можно было ругать, сколько хочется. Но Ленина и партию ни в коем случае. Этого-то как раз никто и не собирался тогда делать. Ведь они были не виноваты. Партия и сама страшно пострадала «в результате извращения правовых норм». Все верили в сказочку о плохом Сталине и хорошем Ленине. Я тоже. Должен был пройти еще не один десяток лет, чтобы по крайней мере те, кто пострадал от коммунистического террора, поняли, что если бы не было Сталина, был бы кто-то другой. И может быть, еще более зловещий. Что главным виновником зла является все еще обожествляемый всеми Ленин. Однако многие ничего не поняли и по сей день.
Были убраны скульптуры Сталина. В городе Усолье- Сибирское у входа в Дом культуры стояли гипсовые статуи Ленина и Сталина. Одна по одну, другая по другую сторону. Средь бела дня подъехал трактор «Беларусь», накинул на шею Сталина стальную петлю троса и поволок по улице под аплодисменты и восторженные крики публики. Гипсовый Сталин вертелся на тросе как на спиннинге блесна-вертушка.
Летом освободили всех ссыльных. Выдали красную бумажку, в которой было написано, что такой-то снят с учета в спецкомендатуре. Со дня нашей высылки прошло ровно пятнадцать лет. На основании бумаги об освобождении нам выдали паспорта. В Тасеево был только один фотограф. Маме лишь с третьего подхода удалось получить фотографию, более или менее близкую к оригиналу.
Можно было собираться домой. Но кто нас там ждал? Свобода, которую мы получили вместе с красной бумажкой, напоминала «птичьи права», каковые предоставила крестьянам отмена крепостного права. Не у каждого было куда вернуться, не каждого ждали. Со мной «дорогая родина» уже сыграла плохую шутку и где гарантия, что подобное не повторится?
Некоторые уезжали на родину без раздумий, но многие задержались в Сибири на какое-то время и возвратились в Латвию спустя годы, когда заработали денег, чтобы в Латвии можно было купить квартиру. Ведь ни дома, ни квартиры никто бывшим ссыльным возвращать не собирался. Мы не были реабилитированы, а как бы отбыли положенное наказание и теперь были то ли амнистированы, то ли помилованы. Советское государство «простило» детям и женщинам их «преступления» против государства, против великой Родины. А мужчинам? Их уже не было. Прощать было некому.
Мне ехать было некуда, и я остался в Сибири вместе с женой «...искать стране структуры, нефть и газ...», как пелось в одной песне геологов.
Первый отпуск после моего освобождения мы с женой решили провести на ее родине - на Кубани. Совершить, так сказать, запоздалое свадебное путешествие. Ехать надо было через Москву, и я решил навестить маминого брата Дмитрия. Адрес у меня был. Первое впечатление от встречи оказалось не очень приятным. Особенно болезненно восприняла встречу моя жена. Я же после всего, что со мной произошло, стал более толстокожим. И так было всю мою дальнейшую жизнь. Многие вещи и события, которые волновали или возмущали жену, меня зачастую лишь веселили, в худшем случае, вызывали презрение. К тому же я всегда старался влезть в шкуру другого человека. Я понимал и не осуждал людей за страх перед чека. Осуждению подлежит только предательство, даже совершенное от страха.
Несколько минут разговор велся за закрытыми дверями. Вначале с тетей Верой, женой дяди, потом с самим дядей, пока они не уяснили, кто я такой. Гости мы были нежданные, о которых русская пословица, как известно, говорит, что они «хуже татарина». Разговаривать приходилось вполголоса, чтобы не услышали соседи. Квартира была коммунальная - в подвале, где-то в районе Таганки. Дочь Дмитрия Рита, моя двоюродная сестра, пришла к родителям в гости, но сразу же, даже толком с нами не поздоровавшись, убралась восвояси, забрав с собой и двенадцатилетнего Павлика, моего двоюродного брата. С новы-ми родственниками мы просидели всю ночь, разговаривая чуть ли не шепотом. Дядя Дима занимал достаточно высокую должность в Министерстве торговли - возглавлял отдел строительства. В юности воевал в Узбекистане с басмачами, узбекскими националистами, в последней войне с немцами дослужился до полковника, убежденный коммунист. Вообще-то он был хороший мужик, но ума не слишком выдающегося. Утвердился я в своем мнении позже, когда и сам поумнел, многое узнал. Но такими они были все. Вся сталинская номенклатура. Только партбилет, «хлебная карточка», помогал им занимать высокие должности. Приход к власти Хрущева сильно их напугал. Номенклатура боялась любых перемен. Сталина они терпели как зубную боль, день и ночь дрожали в ожидании рокового звонка в дверь, Но и от Хрущева не ждали ничего хорошего, во всяком случае, лично для себя. Смена власти влечет за собой и смену ее высших эше-лонов. Во времена Хрущева перемены были минимальными, возможно, в этом и заключалась самая большая ошибка нового руководителя государства. И хотя до войны чека трясло дядю Диму основательно за его родственные связи с латышскими буржуями и якобы только война вырвала его из цепких объятий органов, он боготворил Сталина, был убежден, что войну выиграли только благодаря Сталину. Когда во время наших позднейших встреч за бутылкой водки я пытался его переубедить, что немцы были разгромлены не благодаря Сталину, а невзирая на Сталина, и даже я на его месте выиграл бы войну - будь у меня такая неограниченная власть, да еще с такими страшными потерями, - дядя набросился на меня с кулаками.
Вдвоем с женой мы объездили юг, лакомились фруктами, раками, виноградом и ни с чем не сравнимым кубанским хлебом в Лидиной родной станице Стародеревянковской. Пожарившись на горячем южном солнце, пополоскавшись в Черном море, расстроив желудки фруктами и излечив их чачей и жгучим красным перцем, мы отправились обратно в свою Сибирь, срывая в душном вагоне ошметки обгоревшей кожи. Слишком горячим для меня оказалось южное солнце. И жена от него отвыкла.
На обратном пути через Москву заехали в гости к профессору Шурпе. Он был доволен жизнью. Сказал, что наконец-то правда восторжествовала. У него была хорошая квартира, всяческие привилегии, специальная «пайка», транспорт и бесплатное медицинское обслуживание. И жена была молодая. Последнюю жену он оставил в Игарке. Вспоминая прожитые в Игарке годы, его лекции о вреде никотина и секс, я в шутку спросил, как нынче обстоят дела с женским полом. Пользуясь больше жестами, он ответил, что главная проблема заключается в том, что ноги его больше не слушаются, чтобы бегать за дамами...
Шурпе агитировал меня вступать в партию. Сказал, что в Латвию посылают много русских, партийцев, так как в Латвии среди латышей членов партии мало. Лично его только состояние здоровья удерживает в Москве, рядом с хорошими, еще с юности знакомыми врачами. Теперь все будет иначе, сталинские времена никогда больше не повторятся, партии нужны такие, как я, которые придут на смену старым кадрам. Шурпе обещал дать рекомендацию.
Отдохнувшие, загорелые, переполненные впечатлениями, пропитанные южными витаминами, мы вернулись в Сибирь.
Вот уже больше полугода мы возились со скважиной в Мурме, так как произошло несколько аварий. Пробурили три километра. Два из них в слое чистой соли. В те годы это была самая глубокая скважина в Советском Союзе.
Внезапно, но не совсем уж неожиданно, из скважины стал вырываться газ. И с такой страшной силой, с таким рычаньем, что слышно было в Тасееве, в десяти километрах от Мурмы. Необходимо было газ поджечь, чтобы не загрязнять воздух. Он горел около месяца, потом скважину затампонировали, и газовый фонтан перекрыли. Экспедицию ликвидировали, персонал расформировали - кого куда. Когда спустя много лет, уже после нашего отъезда, скважину вновь прочистили и стали откачивать, газа уже не было и в помине. Сибирь неохотно расстается с богатствами своих земных недр.
Если не ошибаюсь, мы работали в городе Тулун Иркутской области, когда я получил от Шурпе письмо с рекомендацией для вступления в партию. Но оказалось, что она не годится, так как фамилия в ней не соответствовала указанной в паспорте. Но это была не проблема: таких рекомендаций я мог получить, сколько угодно, - от своих друзей-геологов, которые тоже агитировали меня вступать в партию, но не хотелось огорчать Шурпе, не воспользовавшись его рекомендацией, и я на все махнул рукой. Тем более что и сам я не очень к этому стремился. Разве что было любопытно - о чем говорят на партийных собраниях и что там, в этих «закрытых письмах». Позже я убедился, что чуть ли не последним закрытым письмом было прочитанное Хрущевым на XX съезде. Впоследствии, пока письмо из ЦК доходило до первичных организаций, все секреты можно было прочесть в любой газете.
О дальнейшем образовании я смог думать, когда получил полную свободу передвижения. О заочном образовании, конечно. Сомневался, сумею ли одолеть институт, поэтому поступил в Свердловский автомобильный и автодорожный техникум. С большей охотой я стал бы изучать геологию, но туда подобных мне не принимали. Вся геология в Советском Союзе была засекречена и находилась под особым надзором КГБ.
Важно было и то, что в проспекте, который я получил из техникума, говорилось, что вступительные экзамены я могу сдать в местной школе.
Охарактеризовать уровень образования местной интеллигенции (в том числе учителей) может такой пример. Когда директор школы Ким (по национальности кореец) попросил меня назвать имя и отчество, я ответил, что отца зовут Эмиль, директор воскликнул: «Ах, Эмиль? Да, помню - есть такая книга «Эмиль Золя»». Если среди директоров школ были такие, то стоит ли удивляться, что, к примеру, отдел в самом большом магазине села, где продавали всякую мелочь, украшала надпись - «Кольца для ручных пальцев». Были и другие подобные литературные перлы.
И все же в Сибири было очень много интеллигенции. Она уже десятки лет добывала уголь, ловила рыбу, валила лес, подметала улицы, мыла уборные. К XX съезду почти вся старая интеллигенция была уничтожена, если не физически, то морально. Часть новой интеллигенции была отравлена демагогией и бюрократизмом и запугана до смерти. Но не всех сумели довести «до ручки». Были и такие, кто способен был принимать важные и конкретные решения, не боясь существовавшего в государстве неписаного закона - «инициатива наказуема». Если бы не эта небольшая часть - в основном вчерашних военных и уволенных в запас Хрущевым, - государство погибло бы. Кажется, все произошло в свое время. И смерть Сталина, и приход Хрущева к власти. Надо ли при этом говорить «слава Богу»? А если наоборот? Если это всесильное государство рухнуло бы гораздо раньше, отпали бы многие проблемы, которые еще десятки лет мучили сотни миллионов человек. Но кто знает, возможно, если бы власть рухнула, она погребла бы под собой сотни миллионов, и нас тоже? Вероятно, все происходит тогда и так, как должно происходить. Снова вспоминаются слова моей бабушки: «Бог всё делает правильно!»
Я писал, что мне еще в школе в Игарке трудно давалась грамматика русского языка, а за три последних года знания мои 8 ЭТ0И °бласти вперед не продвинулись, скорее, наоборот. Так что надо было учиться. Учителей в сибирских селах было предостаточно. Не только таких, как упомянутый директор школы, но учителей высшего класса, для которых вплоть до хрущевского «освобождения» двери школы были закрыты. Со мной занималась прекрасная учительница Рита. Долгие годы вместе с сыном она просидела в лагере и была выслана в Тасеево. О своем прошлом не рассказывала. Была очень запугана. Но люди болтали, что она жена какого-то очень большого партийного начальника, чуть ли не латыша, репрессированного в 1937 году, но только сменила фамилию.
Экзамены я сдал и был принят в техникум. Сейчас думаю, что экзамены можно было сдать и гораздо проще, выпив пару поллитровок с тем же директором. Но, во-первых, я никогда не знал, кого и каким количеством «подмазать», и никогда этого не делал. Во-вторых, Рита была интересный, интеллигентный человек. Я подружился с ее сыном, механиком, который мне очень помог в первый год учебы в техникуме. Вскоре они уехали, так и не раскрыв своей тайны. В те годы встречалось немало людей с загадочным прошлым. Коммунистическая власть научила людей держать язык за зубами.
Довелось общаться и с представителями молодой китайской интеллигенции. Отношения с Китаем тогда были хорошие, и в наш трест на практику прислали студентов последнего курса геологического института из Китая. Старательность, трудолюбие китайцев вызывают восхищение. Их прикомандировали к так называемым полевым партиям, совершавшим длинные радиальные маршруты, во время которых необходимо было собрать образцы пород и отметить их местонахождение на карте. Такая партия и обосновалась в Тасеево. Наши геологи, возвращаясь с трудного маршрута, думали только об одном - как бы поскорее принять горизонтальное положение и задрать ноги. А китаец Тян Джанфу еще до полуночи читал специальную литературу и китайские газеты. Газеты с родины китайцам присылали по одному экземпляру на пять-шесть человек. Один прочтет и отсылает их практиканту в другую партию, второй - третьему, и так по цепочке, пока не прочтут все. Читали они прилежно, чтобы быть в курсе всех происходивших в родном Китае событий. Китайские студенты тоже были основательно заморочены коммунистической идеологией и культом Мао. Когда во время очередного застолья я открывал энциклопедический словарь на странице с изображением Мао Цзедуна, наш китаец со слезами восторга на глазах хлопал в ладоши и даже что-то пытался напеть.
Где теперь Тян Джанфу? Спасло ли его от «большой чистки» во время культурной революции его бедняцкое происхождение, то, что в детстве вся семья ютилась в пещере, вырытой в речном обрыве? А может быть, он погиб, как многие молодые китайские интеллигенты только потому, что несколько месяцев провел в Советском Союзе? Как в свое время многие советские интеллигенты, пожившие некоторое время за границей?
Кстати, в Сибири вообще было много азиатов - китайцев, но еще больше корейцев. Жили они на городской окраине и занимались в основном овощеводством. Первыми свежим луком, редисом, всяческой зеленью горожан снабжали корейцы, за что их ожесточенно ругало прочее население, обвиняя в желании нажиться «за счет бедного русского народа».
Учиться в техникуме предстояло три с половиной года. Заочно получить образование вообще непросто, а учитывая специфику работы в геологической экспедиции с ее частой сменой места жительства, «жизнью на чемоданах», учитывая сложности с технической литературой и прочие обстоятельства, временами приходилось ох как нелегко. И когда сегодня кто-то говорит, что не имеет возможности учиться, то извините...
Пальцев на руках не хватает, когда начинаешь считать, сколько раз нам пришлось переезжать за восемь лет работы в геологической экспедиции. За эти годы мы повидали много интересных мест, было много интересных встреч и событий.
Старое разбойничье село Мурма, где забил первый в моей жизни газовый фонтан, золотоискатели в свое время сжигали трижды. Через Мурму шел путь к золотым приискам, и когда старатели с золотом возвращались через село, местные жители, напоив допьяна истосковавшихся по зелью старателей, спящих ножом по горлу... Нам показали какого-то сгорбленного, «замшелого» старика, на совести которого была якобы не одна жизнь старателя.
Нижнеудинск, Тулун, Усолье-Сибирское, Оса, Атовка...
В Атовке, где я был исполняющим обязанности главного механика, забил первый в Восточной Сибири нефтяной фонтан. Нефть была из кембрия, чистая, как шампанское. Заливай в машину и поезжай.
Васильевка, Шеломки, Радуй, Кондратьево...
В Кондратьево мы жили в помещении колхозной конторы. За стеной рано утром собирались колхозники. Сочные ругательства сопровождали каждое сказанное слово. По телефону в район сообщали цифры надоев и убранного сена, что тоже сопровождалось матом. Был бы тогда диктофон!.. Зато по утрам какая-то курица неслась под нашим крыльцом, и я почти каждое утро съедал свежее яйцо.
Жили мы и в селах, где не было питьевой воды. Вода была соленая, и местные жители зимой набивали погреба льдом, который выпиливали в речках и озерах. Лед был несоленый.
В каждом селе геологи были долгожданные гости. Нам всегда давали зеленый свет. Поселковые магазины пустовали. Они ничем не отличались от магазина военных лет в Куличках. Колхозники обходились в основном тем, что давал им приусадебный участок. Дети вырастали, не зная ни сахара, ни масла. Колбаса, сыр были уже фантастикой. Мы приезжали в село со своим магазином, от щедрот которого перепадало и местной публике.
Весной 1960 года я окончил техникум. Я победил. Победил сам себя. Вспоминая сибирские восемь лет учебы, вначале в Игарке, в вечерней школе, потом заочно в техникуме, я до сих пор удивляюсь, как смог все преодолеть, несмотря на многочисленные неблагоприятные обстоятельства. В Игарке были холод, пурга, танцы, девушки, плохое знание языка, большой перерыв в учебе, лень. В техникуме были другие проблемы. Легкомыслие и лень, которые в той или иной степени присущи в молодости каждому, я как будто преодолел. Но, вероятно, только тот, кто и сам учился заочно, понимает, как трудно заставить самого себя учиться, если нет стимула, что знания Удастся продемонстрировать завтра или послезавтра, пусть даже через месяц-два, но когда такая возможность появляется только во время следующей сессии... А если еще с трудом Удается достать нужные книги, если дом, как клуб экспедиции, где обычно отмечаются все праздники, дом, куда может в любую минуту прийти каждый, чтобы поведать о своей беде, обсудить покупку, «обмыть подтяжки», потому что здесь две мамы, которые могут дать совет или приготовить вкусную «закусь», и симпатичная и веселая Лида с гитарой. Очень часто в нашем доме до поздней ночи звучали песни. И не раз во время очередного «сабантуя» или карточной игры мне в соседней комнате приходилось срочно выполнять контрольную работу для отправки в Свердловск. А если это еще и первые годы брака... Разве мало было «молодых энтузиастов», на чьих целях и замыслах женитьба поставила крест? И в том, что я достиг цели, в большой мере заслуга моей жены.
На последнюю сессию и защиту диплома в Свердловск мы поехали вместе, и я решил отвезти Лиду на свою родину. Туда, куда раньше или позже мы должны уехать и где должны остаться. Навсегда. В том, что будет именно так, у меня не было ни малейших сомнений. Это был лишь вопрос времени.
По дороге мы остановились в Москве. Посетили профессора Шурпе. На сей раз как врача. У жены возникли проблемы во время беременности. Это был распространенный в пятидесятые годы «токсикоз». Каждая беременность заканчивалась до срока и печально. Невозможно почувствовать то, что чувствует женщина. Но мне хватило и того, что чувствовал я сам. Сейчас многое из происходившего в то время можно воспринять с юмором, например, случай в метро, когда жена, увидев тучного юношу, схватилась за горло и бросилась к ближайшей мусорной урне со словами: «Убери, пожалуйста, этого жирного мальчишку!» Сейчас многое можно вспоминать со смехом, но тогда!.. Точку на этом поставил профессор Шурпе в Москве и профес-сор Шуб в Риге. Известный рижский гинеколог Шуб когда-то в России был ученым секретарем у профессора Шурпе. Когда моя жена пришла к Шубу с письмом от Шурпе, перед ней зажегся «зеленый свет». С ней обращались как с выдающейся персоной. И вообще в Риге медицина была в те времена на более высоком уровне, чем в городах Сибири.
Вооружившись советами, рецептами, рекомендациями и письмами к некоторым «светилам» иркутской медицины, мы вернулись в Сибирь. У меня в кармане была новая, с правильной фамилией, рекомендация от Шурпе. Поскольку особых причин для вступления в партию у меня не было, я собирался сохранить этот листок как память о старом сим-патичном профессоре, но обстоятельства сложились так, что я решил рекомендацией воспользоваться. Из упрямства и в карьерных целях. Меня назначили главным механиком в Усолье-Сибирскую экспедицию. До этого я везде уживался и с коллегами, и с начальством, но с начальником Усольской экспедиции Алферьевым у нас с первого же дня, мягко выражаясь, не сложились отношения, возникла какая-то психологическая несовместимость. Человек он был грубый. Трехэтажный мат срывался с его губ чуть ли не после каждого слова. И я ангелом не был, ругательства знал не хуже его, и у меня нет-нет да проскакивало бранное словцо, но с тем, как пользовался ими Алферьев, я примириться не мог. К тому же, у него совершенно отсутствовало чувство юмора, а я считаю это одним из самых больших недостатков. База экспедиции находилась в городе, а буровая километрах в пяти-шести от него. Бригаду бурильщиков на вышку везли микроавтобусом. Как-то во время поездки застучал мотор, и бурильщикам пришлось добираться пешком. Случилось это перед очередными октябрьскими праздниками, когда в трест надлежало отправить отчет о «трудовых победах». Когда Алферьев, красный от гнева, закричал: «Кто ответит за срыв плана?», я ответил, что Клавдия Шульженко. Долго он еще вспоминал мне Клавдию Шульженко. Сделать со мной он ничего не мог, так как оба мы считались номенклатурой треста, но нервы потрепал порядочно. В тресте знали о нашем конфликте, но и Алферьева знали - у него все люди были плохие. Главный механик треста Игорь Чирко (высланный украинец) сказал, что Алферьев как член партии всегда будет прав. И посоветовал мне вступить в партию. Даже рекомендацию дать обещал. И тогда я подал заявление о вступлении в партию и воспользовался рекомендацией старого коммуниста Эдуарда Шурпе. Но Алферьев меня «переиграл» - воспользовался своим авторитетом начальника и тем, что я бывший ссыльный. На этом этапе мой «тернистый путь» в партию завершился. На время. Я уже говорил, что до конфликта с Алферьевым я не видел особой нужды вступать в партию. Но не видел и причины этого не делать. Я уже упоминал, что в тюрьме и позже в ссылке, общаясь со многими бывшими, позже восстановленными в партии коммунистами, я изменил свой взгляд на партию, словом, и мне мозги «припудрили». Все они были людьми умными, порядочными, и относились не только ко мне, но и вообще к нам, латышам, доброжелательно. А после XX съезда партии, когда якобы были восстановлены принципы «хорошего и мудрого » Ленина, я не видел причины, которая помешала бы мне вступить в партию. А то, что в Усолье-Сибирском мне это не удалось, не очень меня тревожило. Черт с ней, с этой партией! Пусть пока обойдется без меня! Если сможет.
Вскоре была организована новая экспедиция - в село Радуй Усть-Ордынского автономного округа Бурятии, и я был назначен главным механиком экспедиции. Радуй, бурятское село, было расположено в удивительно красивом месте. В глубокой, окруженной горами долине текла речка, по берегам которой были разбросаны деревенские дома. Долина напоминала каньоны из американских фильмов, которые я когда-то видел. В память о Джеке Лондоне я назвал ее «Лунной долиной».
Мы прибыли на двух грузовиках. Выехали из леса, и в долине перед нами открылась панорама Радуя. Дорога так круто спускалась вниз, что мы решили выйти, и машины уже без нас спустились с горы.
Всю предыдущую ночь мы плыли на барже из Усолье- Сибирского по Ангаре на север. Мы, три командира: главный инженер Сергей Верин, только что окончивший Московский нефтяной институт, старший буровой мастер Щербань и я - главный механик. Вместе с нами было еще человек десять из старых кадров - бурильщики и дизелисты. Остальные человек тридцать-сорок были только что нанятые молодые ребята, часть недавно демобилизованные, остальные - только что отсидевшие срок. Человек пять-шесть из них были «блатные», как мои сокамерники по Красноярской тюрьме. Это я понял с первого взгляда.
С собой мы везли пилораму, дизель-электростанцию, несколько станков и еще кое-что самое необходимое.
В Радуе мне впервые пришлось руководить всеми работами на организационном этапе, что входило в прямые обязанности главного механика. Необходимо было установить и запустить электростанцию, пилораму, установить станки в будущей механической мастерской и руководить строительством гаража и жилых домов, помещений для электростанции и мастерских. Но самое главное - монтаж бурильного оборудования. Этим мы занимались вместе с главным инженером и мастером. Я отвечал за монтаж силовых установок - дизельного двигателя и трансмиссий. Монтажом бурильной вышки руководил финн Карпилайнен, высланный в 1939 году с оккупированной русскими территории Финляндии.
Работа была интересная. Все предстояло начинать с нуля. Но все в страшной спешке, как все делалось в Советском Союзе. К Октябрьским праздникам надо было начать бурение, хоть ты лопни. Вечно в спешке, вечно к каким-нибудь праздникам. И почти всегда за счет качества. В Радуе надо было спешить, потому что стремительно строилась Братская ГЭС. Примерно через год на открытие гидроэлектростанции прибыл сам Никита Сергеевич Хрущев - нажать на кнопку пуска. Если не ошибаюсь, было это осенью 1961 года, на Октябрьские праздники. Однако то ли Хрущев приехал раньше, то ли в спешке что-то напутали, но после нажатия кнопки турбины проработали всего несколько часов. Потом что-то замкнуло, что-то задымилось, что-то затопили аварийные автоматические огнетушители. Кто знает, что произошло на самом деле, только скандал был чудовищный. Виновных будто бы нашли в каком-то ленинградском КБ. Лишь те, кто все время торопил, кто «стоял над душой» конструкторов, машиностроителей, строителей, ни за что не отвечали, не были ни в чем виноваты.
На месте «Лунной долины» теперь шумит Братское море. Радуй и еще десятки, а то и
сотни сел оказались на дне нового моря.
В те годы глубокое бурение продвигалось медленно. На одной скважине работали
несколько лет, и, если случалась авария, а происходило это довольно часто,
работа затягивалась. Поэтому на каждой буровой строили и поселок. Если поселок
находился недалеко от колхоза, он переходил в его собственность. Но и бросать
приходилось такие поселки, если строили их в «медвежьем углу». В Радуе часть
рабочих под моим началом строила поселок, большинство в тайге вырубали просеку,
готовили фундамент для буровой вышки и механизмов.
Рабочие жили в палатках. Мы с Сергеем и мастером обошли все село в поисках жилья. Во всех домах была неописуемая грязь. У каждого народа свои особенности. Буряты, очевидно, жили по принципу, что злейший враг гигиена.
В нескольких километрах от нашего места обитания располагалось большое село с машинно-ремонтной станцией. Мне часто приходилось обращаться туда за технической помощью. Буряты отличались гостеприимством и всегда были готовы помочь. С механиком станции, бурятом, я был в очень хороших отношениях. Как-то мне опять от него что-то понадобилось. Был обед, и он был дома. Чистил большую рыбину. Я поставил на стол бутылку спирта. Хозяин обрадовался, сказал, что сейчас пожарит рыбу, и пригласил меня обедать. По полу ползал маленький мальчонка. И обкакался. Тем же большим широким ножом, которым он чистил рыбу, бурят поскреб детскую попку и ножки, вытер нож о голенище кирзового сапога и снова принялся разделывать рыбу. Отказаться от обеда было невозможно - врага в лице хозяина на всю жизнь я иметь не хотел: работать здесь предстояло еще долго. От отношений с местным населением в большой степени зависел успех нашего дела в этом районе. Стакан спирта как бы застил мне глаза, и рыба пошла «на ура».
Еду на всю бригаду готовил парень, недавно демобилизовавшийся с флота, где он был коком. В помощники ему наняли местных девушек. Дома они, по всей видимости, тарелки не мыли, так что делать этого не умели. Как у нас тогда шутили, буряты, мол, собак держат, чтобы не надо было мыть посуду. Возможно, это было близко к истине. Тарелки и ложки всегда были жирными. Ребята швыряли грязные чашки девушкам с раскосыми глазами обратно. Надо сказать, что были среди них и красавицы. А дети, рождавшиеся в смешанных русско- бурятских семьях, которых здесь было немало, были красивы, как ангелы.
Бывший кок готовил отлично. Если было из чего. Но что уж такого особенного можно было приготовить из консервов, которые наш трест закупил из армейских резервов. Банки пролежавшие десятки лет на армейских складах, проржавели чуть не до мяса, хотя были смазаны толстым слоем технического вазелина.
Скота в селе было много, но летом, в жару, его не забивали - это было не принято. Забивали только поздней осенью. И не помогали ни наши уговоры, ни деньги. Народ был упрямый, цепко придерживался традиций предков. Консервы жутко надоели, и мы в основном обходились молочными продуктами, которые нам ежедневно привозили с молочного завода.
Как-то вечером задумали с Сергеем сходить на ферму попить парного молока. В тамбуре коровника стояли бидоны и ведра с молоком. Маленький бурятский мальчик стоял на коленях возле ведра, пил теплое молоко, а из носа в ведро текли длинные зеленые сопли... Сергея затошнило, и он бросился за угол.
Сергей объявил молочным продуктам бойкот. И не он один. Положение становилось критическим. Контингент наших рабочих считался «взрывоопасным». Спас нас дождь, которого не было все лето, а тут вдруг буквально хлынул, и единственная сельская улица превратилась в огромную грязевую лужу. Автомашину «ГАЗ-бЗ» занесло, и колесом грузовик прижал к забору поросенка. Вместе с последним визгом тот испустил дух. Хозяин негодовал, но я тут же на месте заплатил за мясо приличную сумму. И вопрос с мясом был решен. Это был не единственный поросенок, которого постигла такая печальная участь. Но наступила осень, и мяса стало вдоволь.
Раз уж я пишу о бурятах, стоит упомянуть и об их самогоне - «тарасуне». Русские юмористы, авторы бессмертного романа «Золотой теленок» Ильф и Петров пишут о двух американцах, которые, путешествуя по России, собирали рецепты самогонки. Рецепт тарасуна в этом списке наверняка занял бы не последнее место. Из чего только не гонят самогон! Герой того же романа Остап Бендер утверждал, что самогонку можно гнать из чего угодно, даже из табуретки («табуретовка»). Буряты гнали самогон из молока. Возможно, если бы перегонку тарасуна прекращали при 50-60 градусах крепости, он был бы не хуже «родимой» из сахарной свеклы или зерна, но буряты перегоняли тарасун, пока крепость в нем не достигала 12-15 градусов. Потом ставили на стол ведро с белой мутной жидкостью, кружками черпали и пили, как пиво. Ароматом она не шла ни в какое сравнение с канской гамирой. Алюминиевую кружку, из которой пили тарасун, можно было сразу же выбрасывать, так как отмыть ее не было никакой надежды, она воняла как десять уборных. Сам процесс брожения был интересным. В углу помещения стояла бочка, покрытая грязной тряпицей. Каждый день в бочку доливали молоко. Если прислушаться, можно было расслышать, как в бочке что-то сопит, шуршит. Шуршание было не результатом брожения, шуршали черви, которые толстым слоем покрывали брагу. Белые черви с черной головкой.
Работая в геологических экспедициях в Латвии, я объездил всю Латвию, прекрасно был знаком с «идиллией» сельской жизни в советские времена, видел, до чего была доведена наша деревня. Со стыдом приходится признать, что по пьянству латвийское село в русские времена ничуть не отставало от Бурятии. А гнали и пили самогон в колхозах и совхозах Латвии зачастую точно так же, как и в других регионах «страны родной».
Уже в восьмидесятых годах в одном из совхозов, в самом сердце Латвии, мы с шофером решили посмотреть, как делают вино. Говорили, что вино здесь якобы является одним из главных источников дохода. Было раннее утро. В винном цехе пять- шесть человек, все уже «под завязку», толклись возле пресса и еще какого-то оборудования. Там же в цеху и на улице суетилось несколько мужчин и женщин, которых с рассвета мучила жажда. Кое-кто тут же на травке и отдыхал.
Пресс работал по тому же принципу, как «маслобойка» в Куличках. Нужно было ходить вокруг пресса и закручивать винт. Яблочная масса в какой-то тряпке была придавлена деревянными решетками. Внезапно пирамида из решеток рухнула, яблочная масса вывалилась на пол. Пьяные рабочие кое-как подбирали ее лопатами с грязного глиняного пола и кидали обратно в пресс. Процесс продолжался.
В Усолье-Сибирском, на берегу красивой Ангары, родилась моя дочь. Была суровая зима, холода начались еще осенью. В полуразвалившейся избе, где мы временно поселились, постоянно дымила печь. Под потолком перекатывались облака дыма. Когда открывали дверь, с улицы врывались белые клубы холода. Ребенок спал в жестяной ванночке, так как кроватку достать было невозможно.
К тому времени в нескольких километрах от города построили огромный химический комбинат. Исходным сырьем для комбината была вода, содержащая бром, хлор, йод и другие элементы, которую откачивали из пробуренных нами скважин. Когда ветер дул со стороны комбината, запах проникал в комнату даже через закрытые окна, а на улице просто перехватывало дыхание. Горожане воспринимали это как нечто само собой разумеющееся и неизбежное. В те годы об экологии, охране природы никто даже не слышал. А противодействие или агитация могли быть расценены как антигосударственная деятельность, что для «здоровья» могло иметь гораздо более серьезные последствия, чем вдыхаемые газы...
Много лет спустя, уже во время горбачевской «перестройки», в российской печати появилось несколько строк об экологической катастрофе в Усолье-Сибирском. Что случилось, что прорвало, кто знает. О подобных случаях писать уже начали, но очень стыдливо.
В паспортах у многих молодых латышей, теперь им уже за пятьдесят, местом рождения являются Канск, Красноярск, Омск или другое место с экзотическим названием на берегах Енисея, Оби, Амура, Тунгуски или Иртыша, место, которого нет даже на карте. До последнего времени, до нашей третьей Атмоды, партийным и государственным функционерам казался подозрительным латыш, родившийся в Сибири. Значит, в близком или далеком прошлом с его предками не все было в порядке. А поскольку не только в Святом Писании, но и в сознании советского общества за долгие семьдесят лет укоренился взгляд, что за грехи отца надо отвечать если не в седьмом колене, то в третьем обязательно, то к такой личности следует относиться с известной долей осторожности.
Кто знает, до какого колена Бог (который теперь как будто все же существует) будет преследовать потомков калнберзиней, лацисов, воссов, новиксов и им подобных вождей и «героев» с чистым паспортом и чистым прошлым? Согласно Библии, мы, возможно, должны искупить грехи своих отцов и дедов, совершенные ими в годы революции и гражданской войны? А может быть, они тогда уничтожали не тех, защищали и охраняли не тех? Кто знает, кто знает! Но я убежден, я знаю, что все стрелки, которые в нужный час вернулись в Латвию, на чьей бы стороне они ни сражались, сражались за Латвию. И главная идея, которая привела их домой, была идея строительства Латвийского государства. А какая идея вела тех, кто в 1940 году встал в Латвии у кормила государственной власти, наплевав на все, что было достигнуто Латвией за двадцать лет? Ждет ли их детей и внуков, их потомков в седьмом колене расплата? Не дай, конечно, Бог! Я не верю, что Бог столь мстителен. В такого Бога я не верю и такого Бога не признаю. Такого Бога только сами люди могли выдумать. Злые люди.
В юности над такими вопросами я не задумывался. Все мои мысли занимали две вещи - ответственная и полная неожиданностей работа главного механика и энергетика и стремление лишний раз вырваться на левобережье Ангары, где в Усолье- Сибирском жили жена и только что родившаяся дочь. Радуй, потом Васильевка, где я работал, были расположены на правом берегу Ангары, километрах в двухстах-трехстах по прямой, по траектории птичьего полета, но я не был птицей. Каждую субботу после обеда я начинал свое путешествие, чтобы повидаться с женой и дочерью. Осложняла все Ангара. Обычно на попутке я доезжал до места, откуда проще было добраться до Ангары. Затем искал на берегу перевозчика, потом продолжал путь по левому берегу. Путешествие оставляло на свидание с семьей пару часов, и надо было отправляться в обратный путь.
Во время одного из первых таких путешествий я добрался до так называемого Александровского Централа, откуда, как мне сказали, до Ангары всего пять-шесть километров. Александровский Централ - старая царская каторжная тюрьма, воспетая в песнях старых каторжан. В сталинские времена здесь тоже была тюрьма, в мое время - психиатрическая больница. Два огромных мрачных корпуса. В одном лечились психические больные, во втором алкоголики. Рассказывали, что алкоголики, подтрунивая над соседями, кричали: «Психи!», а те в свою очередь отвечали: «Алкаши!» Что это были за психи и что за алкаши, Бог ведает. Сейчас об этом можно только гадать.
Когда я вышел из кабины, было уже темно, только изредка из-за туч показывалась луна. Пройдя по тропинке с километр, я остановился покурить. Набив трубку, сел на холмик. Оглядевшись, увидел вокруг точно такие же холмики. В свете луны четко проступили их очертания. Я понял, что нахожусь на старом кладбище каторжан.
Спина похолодела, и, казалось, волосы на голове зашевелились. Пришлось напрячь всю силу воли, чтобы не вскочить и не убежать. Понял, что в таких случаях делать этого нельзя. Как нельзя убегать от медведя. Не знаю, отчего на меня напал такой страх. Сотни ночей я провел в тайге в одиночестве у костра и в рыбацких избушках. Пытался убедить себя, что старые каторжники, которые лежат здесь, вероятно, уже лет сто, вряд ли станут причинять зло своему коллеге из двадцатого века. И тут я внезапно подумал, что где-то в вятских болотах могила и моего отца, которая тоже, скорее всего, сравнялась с землей. Сталинские чекисты умели прятать концы в воду. В эту ночь я много думал об отце. Не тогда ли мелькнула мысль отыскать могилу? Скорее всего, нет. Все это будет в далеком будущем мысли об отце не оставляли меня никогда.
В 1961 году мы с женой, уже вдвоем, работали в Тиретской экспедиции, на берегах красивой Саянской Оки (знакомой каждому бывалому водному туристу из Латвии), недалеко от станции Зима - места рождения известного русского поэта Евгения Евтушенко.
Когда пришел черед закрыть Тиретскую экспедицию, а со-трудников, как обычно, раскидать по другим экспедициям, нам с женой предложили на выбор - Марковскую экспедицию в Якутии на Лене или Зейско-Бурейскую экспедицию на Дальнем Востоке. Все мое существо старого бродяги рвалось на Дальний Восток. Я давно мечтал об этом экзотическом крае, и мы, вероятно, поехали бы туда, если бы не одно важное обстоятельство - мы уже были не одни. У нас была дочь, и следовало подумать о ее будущем, о ее детстве. Чтобы у нее была родина, отечество. Это нам любовь к отечеству пытались заменить идеями, которые всегда были и будут чужды нашему народу и отторгнуты, как здоровый организм отторгает чужеродное тело.
Мысли о будущем дочери и, вероятно, та самая неистреби мая любовь к отечеству привели меня не в Якутию, не на экз<^ тический Дальний Восток, а в Латвию. Была весна 1962 года- как сорок лет назад мой отец, так и я привез в Латвию латыш дочь и русскую жену, которая, как когда-то моя мать, полюби эту землю и стала ее патриотом.
в риге мы без долгих размышлений поступили работать в управление геологии, о существовании которого в Сибири и не слышали Нас встретили вежливо, как нужных специалистов, но произошло то же самое, что со мной в 1947 году. Как когда-то меня, так на сей раз и нас обоих Советская Латвия встретила прохладно. В Сибири после XX съезда я уже не чувствовал себя человеком второго сорта, наоборот - быть латышом было почетно. А в Латвийской ССР все было наоборот. Ощущались еще отголоски пленума ЦК партии 1959 года и визита Хрущева. Народ еще помнил Берклавса, с которым были связаны хоть какие-то надежды. Никто не знал, что с Берклавсом случилось. События 1959 года, как и все, что происходило в партии, для народа были окутаны завесой. Под влиянием этих событий в Латвии, первой среди республик, вновь ожил «старый, добрый» дух сталинизма. События XX съезда уже утратили актуальность, и только неисправимые оптимисты не хотели этого понимать и еще на что-то надеялись. Надеялся и я.
О Хрущеве рассказывали анекдоты. Я не находил в них ничего столь уж смешного и остроумного, я был убежден, что анекдоты идут не столько из народа, сколько «сверху». Хрущев многим своим бывшим соратникам и друзьям опротивел. Уже одно то, то можно было рассказывать политические анекдоты, то, что ни вообще появились, было огромным достижением. Это была заслуга Хрущева. Только его мы, ссыльные и заключенные, должны были благодарить за то, что снова свободны. Мне трудно было допустить, что Хрущев мог причинить зло латышскому народу. В то время был убежден, что главные виновники наших бед - наши собственные Арвид Пельше и его клика, как это и было на самом деле. Постепенно Держанный возрождался начатый в 1940 году и попридержанный на какое-то время Берклавсом процесс русификации Латвии. Возможно, в пятидесятые и шестидесятые годы он не отличался такой планомерностью и организованностью, как в семидесятые годы, когда началась интенсивная индустриализация, строительство, ввоз рабочей силы в Латвию из «братских республик». Однако в шестидесятые годы русификация проводилась через искоренение латышского языка в официальных отношениях, в быту и, что хуже всего, в области образования. Но самое печальное заключалось в том, что русификацию проводили в основном сами латыши, если таковыми можно считать приехавших после войны из России так называемых русских латышей во главе с Пельше. Многие вернувшиеся после войны из России латышские коммунисты были во много раз хуже русских. Они питали ненависть к местным латышам и особенно к «неблагонадежным». Они презирали латышский язык и даже если знали его, в разговорах им не пользовались. Но не только они. Кое-кто из наших собственных латышей начал предпочитать русский язык. Сегодня со стыдом приходится признать, что все мы в той или мере участвовали в русификации. Стоило хоть одному русскому человеку появиться в обществе латышей, как все переходили на русский язык. Все собрания проводились на русском языке, неважно, сколько на нем присутствовало русских и сколько латышей, и зачастую смешно было слушать выступавшего на ломаном русском языке докладчика в аудитории, где большинство были латыши. Бывало, что на собрании присутствовало всего несколько русских. Может быть, это доказывало уровень интеллигентности латышского народа, его уважение к другим народам, толерантность? Возможно, и это имело место. А может быть, какую-то роль играл сформировавшийся в нас за долгие столетия рабский синдром?
Когда моя дочь должна была идти в школу, инспектор ближайшей латышской школы, узнав, что дочь говорит и на латышском, и на русском языке, порекомендовала отдать девочку в русскую школу - больше будет перспектив. Я с возмущением отверг это предложение. Возможно, инспектор хотела как лучше, но это проиллюстрировало ориентацию большинства учителей тех лет.
После войны в Латвии осталось много отслуживших в армии русских и людей других национальностей. Причины у всех были разные. Кого-то на родине никто не ждал, разве что развалины и горькие воспоминания. Они надеялись обрести в Латвии с ее красивой природой и относительным достатком вторую родину. И многие обрели. Многие нашли в Латвии любовь и испытывали благодарность к земле и народу, которые их гостеприимно приняли. Еще древние говорили: «Ubi amor, ibi patria» - где любовь, там и отечество.
Были и такие, кому было все равно, где жить: где сытно, там и родина. Но были и такие, кто считал, что с полным правом может остаться в завоеванной, или, как они сами считали, освобожденной стране. Многие из них, вероятно, искренне считали, что «Рига хороший город, только в нем слишком много латышей». Они создавали «климат», в их руках была власть, за ними оставалось решающее слово.
Красивый уголок земли у Балтийского моря избрали местом своего жительства и уволенные в запас сотрудники ликвидированных во времена Хрущева мест заключения, комендатур и Других репрессивных контор. Возможно даже, что они были присланы в Латвию как в потенциальную «горячую точку».
Да, по разным причинам оказались тогда в Латвии люди других национальностей. К таким понятиям, как «родина», «отечество» у больших и малых народов отношение разное. Возможно, на российских просторах у русских исчезает ощущение Родины и Отечества, столь характерное для малых народов.
Естественно, русскому из Иркутска или Владивостока, трудно понять, что, приехав в Псков, за тысячи километров от этих городов, он по-прежнему как бы на своей родине, в России (если Сибирь и Дальний Восток можно считать Россией), а преодолев еще буквально несколько десятков километров, например, до Алуксне, он уже не в России, а на моей родине - в Латвии. Этого он не воспринимает.
Что такое была Латвия в глазах приехавших? Не больше, чем одна из губерний России. А понятие «родина»? По теории Маркса и других корифеев коммунистического учения, у пролетариата родины нет, и просто смешно было, что к пролетариям причислили себя и объевшиеся черной икры партийные функционеры.
Число лиц других национальностей увеличилось и за счет отставных военных. Во времена Хрущева была проведена масштабная демобилизация офицеров, и большинство осталось в Латвии. В Латвию ехали и отставники из Литвы и Эстонии, так как в Латвии более корректно относились к людям других национальностей. Отставники ехали в Латвию со всего Советского Союза, так как после демобилизации они имели право выбирать место жительства (хотя закона такого не было). Истины ради надо сказать, что большинство относилось к нашей стране и народу, к его истории, обычаям, традициям с уважением, хотя в самой армии царила совсем иная атмосфера.
В качестве иллюстрации приведу пример. Через несколько лет после моего возвращения в Ригу проходить срочную службу в Латвии направили моего двоюродного брата Павлика, младшего сына моего московского дядьки. Его часть находилась недалеко от Елгавы. Старшина и политруки пугали солдат, говорили, что все латыши фашисты, что в лесах полно бандитов и пр. Братишка был так запуган, что, несмотря на мои уверения в необоснованности его страха, несмотря на гарантии безопасности, отговорил московских родственников, которые увлекались водным туризмом, от поездки по Гауе.
Всех прибывающих в Латвию следовало обеспечить работой и жильем, к тому же вне очереди. У них проблем с устройством на работу не было, так как руководствовались принципом - чем больше в Латвии русских, тем лучше. Возможно, это была не столько политика Москвы, сколько установка наших собственных бонз, так как в латышской среде они чувствовали себя неуютно. По сравнению с нашими соседями - литовцами и эстонцами - нам на «начальников» не везло. Все эти пельше, БОССЫ, пуго, рубенисы и многие другие, кто находился у руля, были русские латыши, которые лезли из кожи вон, чтобы доказать власти, что латышей они любят не больше, чем русских.
Демобилизованным деятелям репрессивных контор щедро раздавались должности, требовавшие лишь элементарных юридических знаний: домуправов, кадровиков, начальников так называемых спецотделов, инспекторов. Часто руководители учреждений вынуждены были устраивать их на какую-нибудь должность по телефонному звонку «сверху». Нередко для них изобретались специальные должности. Ни для кого не было секретом, что многие из «бывших» продолжали сотрудничать с органами безопасности как «стукачи».
И все эти «бывшие», где и как только могли, чинили препятствия таким, как я. Но еще омерзительнее было то, что делали это наши соотечественники с гораздо большим рвением, чем русские. Страшнее всего для них было обвинение в «буржуазном национализме». Всем еще был памятен печальный конец «правдоискательства» латышских национал-коммунистов. Быть латышом в России было проще и «престижнее», чем в Латвии.
Я пишу об этом, чтобы хоть немного обозначить атмосферу, которая встретила нас на родине и «окутала любовью». Нас «вы-давливали» где только можно и кто только мог. Можно привести десятки примеров из жизни и моей, и моих друзей. Столкнувшись с проявлениями ненависти, с шантажом, кое-кто предпочел вернуться в Сибирь, где его приняли с распростертыми объятьями. Во многих российских городах еще и сейчас можно встретить профессоров, докторов, директоров институтов и заводов или просто хороших специалистов латышской национальности. В России им не приходилось преодолевать тех препятствий, которые чинили им на родине, где главными критериями были принадлежность к партии и незапятнанное прошлое. В России этой проблемы не существовало. Во-первых, там это было неважно, во-вторых, после XX съезда вступить в партию стало проще, и, столкнувшись в Латвии с трудностями, особенно в жилищном вопросе, я пожалел, что в свое время махнул на партию рукой и остановился на полпути. Никакие сентиментальные предубеждения или антипартийные комплексы мою совесть тогда не обременили.
Когда я вернулся из Сибири, энергия во мне била через край, я сознавал собственную компетентность и в первые годы с болью в сердце вспоминал интересную и ответственную работу, которую в Сибири не боялись доверить «врагу народа». А на родине нужна была не моя энергия, не мои знания, а партбилет, зеленая велюровая шляпа и коричневое пальто полковника-отставника (может быть, кто-то еще помнит, что так были одеты все или почти все офицеры в отставке. Очевидно, все это им выдали при демобилизации.)
К людям второго сорта были причислены и члены семей вернувшихся репрессированных, хотя у многих жены были русские. И моя жена испытала это на себе. Вся геологическая документация в Советском Союзе с самого начала была засекречена. До смешного, до глупости, особенно в Латвии. Здесь-то уж воистину нечего было скрывать от «империалистов». Глина, песок, доломит? Разве что нефть в морском шельфе? (Которой хватит ровно на столько, чтобы изгадить прибрежную зону да враждовать с соседями.) В Сибири, недра которой таят в себе действительно несметные богатства, жена имела «допуск СС» (совершенно секретный допуск) ко всем документам. В Латвии такой допуск ей не дали до тех пор, пока за аморальное поведение не уволили начальника спецотдела, бывшего чекиста, и на его место не назначили другого, более прогрессивно настроенного армейского офицера в отставке - Смирнова.
Все это было бы еще терпимо, если бы не квартирный вопрос. Мы, пять человек, ютились в одиннадцатиметровой комнатушке, и надежд не было никаких. Даже поставить нас на очередь обещали только после того, как мы проживем в Риге пять лет. Вспоминается эпизод, когда нам на работе выделили однокомнатную квартиру, которую освободил «чистый» сотрудник, когда ему предоставили более благоустроенное жилье. Меня предупредили, что начальником жилищного отдела в Кировском райисполкоме работает прокурор сталинских времен. Если он узнает о моем прошлом, мне и этой жалкой комнатушки не видать как своих ушей. Так и случилось.
Вспоминается встреча с неким референтом Совета министров Никитиным, который кричал на меня в приемной: Знаю я вас таких! В начале войны вы нам в спину стреляли! Вас обратно в Сибирь надо отправить, а не квартиры давать! Не было смысла ему возражать - когда он бежал из Латвии, я направлялся в Сибирь и никак не мог стрелять ему ни в спину, ни в другое место. Очень мне хотелось сказать - жаль, что не мог я тогда забить заряд соли ему в зад, чтобы быстрее убирался. Никитин был простым референтом в приемной, прием вела некая Кузнецова, министр, которая не говорила по-латышски, но, очевидно, кое- что поняла из тирады Никитина. Выглядела она обескураженной и велела ему замолчать.
Выйдя из Совета министров, я только отряхнулся, как облитая помоями собака, а жена была доведена до слез, до истерики: ни с чем подобным она никогда не сталкивалась.
Я не стал бы писать об этих событиях, если бы такое случилось только со мной, но подобное отношение к себе испытали все репрессированные. Кому из нас не приходилось слышать: «Недаром тебя в Сибирь выслали!» - или что-то похожее. Все чаще мы с женой вспоминали Иркутск, гостеприимные сибирские села, тайгу, буровые, сибирскую нефть, веселые пикники, товарищей и друзей, которые писали нам, звали вернуться. Вскоре после нашего отъезда в селе Марково на берегу Лены забил мощный газовый фонтан, и Марковская экспедиция, главным механиком которой я чуть не стал, прогремела на всю Сибирь.
Через некоторое время после случая в Совете министров мы с мамой получили из Москвы бумаги о реабилитации. Получили и документы отца о посмертной реабилитации. Шла весна 1964 года. Это было огромное событие в моей жизни. Так хотелось пойти в Совет министров и швырнуть документы о реабилитации Никитину в лицо.
Я уже было потерял все надежды: бессчетное число раз писал и в республиканские, и в союзные учреждения. Союзные учреждения, как было тогда принято, пересылали мои письма в Латвийскую ССР. Обычный ход советской бюрократии.
И вот наконец - реабилитация! Маме удалось прорвать замкнутый круг бюрократии. Прибегнув к помощи старых знакомых по ссылке - профессора Эдуарда Шурпе и полковника Александра Пятницкого, она добилась аудиенции у генерального прокурора Советского Союза. Когда мама сообщила об этом своим московским родственникам, тех чуть удар не хватил. Они, возможно, долго еще дрожали по ночам от страха, боялись услышать ожидаемый десятилетиями роковой звонок в дверь, итог их родственных связей.
От аудиенции у прокурора до реабилитации прошло несколько месяцев. Впоследствии стало известно, что по распоряжению всесоюзной прокуратуры некий следователь чека Берзиньш (по крайней мере, под такой фамилией он фигурирует в протоколах) допрашивал многих жителей Екабпилса о моем отце и его «контрреволюционной» деятельности в городе. Эти двадцать два протокола допросов находятся в уголовном деле отца. Интересно сегодня их читать. Почти все допрашиваемые пытались обелить моего отца, сказать о нем доброе слово или вообще не говорить ничего. «Не знаю», «забыл» и пр. Например, мой бывший учитель Петерис Пакалнс, который и сам был айз- саргом и прекрасно знал отца, говорил следователю, что отца моего знал, но не помнит, был ли тот айзсаргом. Некоторые свидетельствовали, что политикой отец вообще не занимался, что айзсаргом был, но не очень активным. Другие утверждали, что 15 июня 1934 года отец в Ригу не ездил, чтобы поддержать переворот Улманиса (он действительно в Ригу не поехал, по какой причине, не знаю). Только четверо дали отрицательные показания. Все четверо были бывшие рабочегвардейцы, к тому же трое еще в мае 1941 года свидетельствовали против отца на допросах У председателя Екабпилсской чека Рейнхолдса. Как велика была их роль в нашем аресте, кто знает. Фамилии их я называть не стану, мне кажется, поступили они скорее по глупости, чем со зла.
Во всяком случае, трое. Четвертый долгие годы занимал высокий пост, и на его совести судьба многих жителей Екабпилса, но Бог ему судья. Не хочу задевать его потомков.
Дело не закончилось допросами двадцати двух. Были изучены десятки уголовныхдел, чтобы выяснить, не фигурирует ли еще в каком-нибудь имя моего отца. Перечитывая триста пятьдесят страниц отцовского дела, я лишний раз убедился в способности чека делать из мухи слона, чтобы доказать необходимость и важность существования конторы.
Казалось бы, квартирный вопрос должен быть решен, так как реабилитированным жилье предоставлялось вне очереди. Но так было только на бумаге. В жилотделе Пролетарского района сидела дама, в глазах которой можно было прочесть все, что она о нас думала. Мы ждали год, и даже лучик надежды не блеснул, пока при содействии доброго человека мне не удалось добиться приема у тогдашнего председателя горисполкома Пакалнса. Система была устроена так, что должностные лица, которые могли что-то решать и не боялись этого делать, были так «замурованы», что добраться до них без блата было невозможно.
Пакалнс в моем присутствии распорядился в течение месяца решить мой вопрос. В течение месяца жилищная дама предложила нам три никуда не годные квартиры. От четвертой мы уже побоялись отказаться, так как внезапно сняли Хрущева. Я опасался возвращения сталинских времен, и тогда наши реабилитационные документы уподобятся туалетной бумаге. И такое могло случиться.
Ничего более подлого, чем выделить нам две комнаты в квартире, где две другие занимал бывший полковник КГБ, российский латыш Ж.Ж., жилищная дама не смогла. Несколько лет мы «имели счастье» быть соседями этого субъекта. Будучи подшофе, полковник рассказывал, что после падения Берии он, как и многие другие, был изгнан из «органов» с минимальной пенсией, но через несколько лет бывшие коллеги выхлопотали ему пенсию обычного полковника. То же самое произошло почти со всеми изгнанными Хрущевым «заплечных дел мастерами». Рассказывал он по пьянке и о том, что был одним из главных организаторов депортации в Курземе в 1949 году. Божился, что вел себя корректно и никого не застрелил.
Я пытался выведать у него что-нибудь об «интересных» тридцатых годах -как ему удалось выжить в годы «отстрела» латышей в России. Тут он сразу же трезвел и отмалчивался. Бог его знает, сколько жизней и в Латвии, и в России было на совести этого чекиста. С большим трудом спустя несколько лет нам удалось избавиться от неприятного соседа.
В конце шестидесятых и в семидесятые годы, когда уже позволяли жилищные условия, то есть, наши две комнаты, появилась возможность познакомиться со всеми моими «заграничными» родственниками - из России, Украины и даже из Ташкента. Когда в Ташкенте случилось страшное землетрясение (если нее ошибаюсь, в 1966 году), у нас почти месяц гостили то ли десять, то ли двенадцать человек родни разного возраста. Все они были интеллигентные, образованные люди, но обол-ваненные коммунистической системой. Одни больше, другие меньше. И не всегда это объяснялось возрастом.
Несколько дней гостил у нас и старший мамин брат из Куйбышева Виктор. После
войны он какое-то время жил в Риге, занимал большую должность - был начальником
финансового отдела Прибалтийской железной дороги. Но вскоре начал понимать, что
Латвия, где жила его сосланная в Сибирь сестра (моя мать) и ее дочь (моя
сестра), не совсем подходящее для него место. Из Риги он уехал по собственному
желанию, но не совсем по собственному желанию был откомандирован на Дальний
Восток, в «Китайско-Российскую железнодорожную компанию». Только военные заслуги
и партийная принадлежность уберегли его от худшего. У нас с ним состоялся долгий
разговор с глазу на глаз. Главная мысль, которую он высказал в разговоре, - все
коммунистические идеи абсолютная чушь, они никогда не воплотятся в жизнь, и не
должны, так как являются тормозом прогресса, но, по его мнению, могло бы
возникнуть нечто среднее между капитализмом и социализмом. Были ли это зачатки
идеи о «социализме с человеческим лицом»? Дядя посоветовал мне вступить в
партию. Не по идейным соображениям, а из чистого прагматизма. Он сказал, что ни
один умный человек давно в эти идеи не верит, но, вступив в партию, умные должны
вытеснить с руководящих должностей дураков. Примерно ту же мысль высказал и
Эдуард Шурпе, который почти каждое лето лечился в санатории в Лиелупе. Только
Шурпе по-прежнему горой стоял за партию. Возможно, лишь на словах? Возможно, он
не мог отступить от своих принципов, признать, что идеи, которые он всю жизнь
отстаивал и за которые боролся, преступная глупость.
Младший мамин брат Алексей разделял взгляды старшего брата, но не был так
откровенен. Ему было что терять. У него была молодая жена и дочь, надо было
думать о карьере. Он был инженер-мостостроитель. Однажды в каком-то городе ему
предстояло возглавить монтаж огромной скульптуры Сталина. Поднять громадную
фигуру тросом можно было одним способом только накинув ей петлю на шею.
Скульптура была успешно установлена, но дядю за то, что «повесил» Сталина, чека
долго не оставляла в покое. И родство с буржуями из Латвии припомнили. И его
спасли только фронтовые заслуги и партбилет.
Средний мамин брат Дмитрий и его жена были люди совершенно иные, очень идейные.
Может быть, не столько идейные, сколько запуганные. Их очень беспокоила карьера
зятьев. Один из них был электронщик, имел отношение к космическим полетам,
второй - офицер-подводник высокого ранга - все время находился за границей. Во
всем остальном зятья были нормальные ребята, только ортодоксальные советские
патриоты. Во всяком случае, в разговорах со мной. Да и разве можно было ожидать
от них чего-то другого? О зверствах чека они имели довольно смутное
представление, для них это было далекое прошлое, которое никогда не вернется.
Если «будут себя хорошо вести». В сознании интеллигенции укоренилось
представление о хорошем Ленине и плохом Сталине. И в моем тоже.
Очень идейным был самый младший сын московского дяди - Павлик, который готовил себя к партийной карьере. Вспоминается курьезный случай. Было это в Москве, в середине семидесятых. Я, Павлик и только что демобилизовавшийся Виктор, сын двоюродной сестры Риты, сидели за бутылкой коньяка. Разговор зашел о нашей разномастной родне. Каких только национальностей не было в ней намешано! И русские, и украинцы, и латыши, и даже узбеки (одна из двоюродных сестер, жившая в Ташкенте, вышла замуж за узбека). Но когда я сказал, что дочь моего дяди Алберта Лилита, живущая в Англии, вышла замуж за англичанина, а сыновья живущего в Швеции родствен-ника Карлиса Долиетиса взяли в жены шведку и немку, Павлик был шокирован. Об этом я не должен никому рассказывать. Все, у кого родственники за границей, подкуплены спецслужбами. Нам с Виктором оставалось только улыбнуться и покрутить пальцем у виска. Павлик был яростным комсомольцем, впоследствии он стал инструктором какого-то московского райкома партии и, вероятно, дослужился бы до партийного секретаря, если бы с государством и с партией не произошло то, что произошло. Павлик, как большинство молодых комсомольских и партийных функционеров и в России, и в Латвии, стал коммерсантом, то есть, с точки зрения коммунистической идеологии, буржуем.
Я пишу об этом не для того, чтобы перемыть косточки своим родственникам или нарисовать их портреты для потомков, а чтобы показать настроения и атмосферу, которые преобладали в среде русской интеллигенции в так называемые застойные времена. Можно только удивляться, какой «коктейль» из образованности, дремучести, интеллигентности, знаний и политической и социальной ограниченности был в головах многих, в общем-то в другом отношении умных и образованных людей. И страх! Вечный страх, даже когда уже нечего было бояться. Как бы ни разнились политические взгляды всех моих российских родственников, общим для всех был великорусский шовинизм. Даже мой двоюродный брат Олег из Ташкента, гостивший в самом начале Атмоды в Риге, которого в политическом смысле можно было причислить к «самым светлым умам» среди моих родственников, менее всех отравленным и политически оболваненным, никак не мог понять, что русский язык в Латвии уже не будет главенствующим, и тем более не мог понять мою точку зрения в этом вопросе - ведь моя мама, его любимая крестная тетя Маня, русская. Сам Олег, родившийся и всю жизнь проживший в Узбекистане, не считал нужным знать узбекский язык и на коренную нацию своей родины - узбеков - смотрел, мягко выражаясь, свысока. И это болезнь большей части русской интеллигенции. Россия, русские, русский язык «превыше всего». Особенно остро это чувствовалось во времена горбачевской «перестройки», в начале пробуждения самосознания малых, порабощенных народов. Коммунистическая идеология хирела, зато пышным цветом расцвел великорусский шовинизм, который, впрочем, никуда не исчезал и в годы правления коммунистов. Даже в работах и высказываниях таких прогрессивных видных личностей, как писатель Солженицын, академик Лихачев, историк Волкогонов и многих других русских демократов, пусть и между строк, но звучал постулат: «Россия и русские превыше всего!» Да еще какая-то с точки зрения истории мистическая идея избранности великого русского народа. А маленькому народу стоит только пикнуть, как его тут же обвиняют в национализме, фашизме и прочих грехах. Несомненно, не все русские таковы. И я надеюсь, со временем таковых станет все меньше и меньше. Или? История знает немало примеров, когда народы, порабощающие другие народы, в конце концов, утрачивают свое могущество. Так было всегда. И надеюсь, так и будет и впредь.
Из Англии к своим сестрам приехала жена дяди Альберта Лидия. Первое и главное ее впечатление от Риги - какое все здесь серое. Это заставило меня вспомнить свое впечатление от России в 1941 году, которую я видел сквозь забранные решеткой окна вагона. И нам тогда все казалось серым. Но в шестидесятые годы Рига после российских городов мне совсем не показалась серой. Сейчас, в конце девяностых, когда я смотрю на нарядный, красивый город, пока из памяти еще не выветрился облик советской Риги, я вспоминаю и понимаю приехавшую из Англии тетку. К тому же ее мучил страх. Тут уж ее можно было понять. Кто из нас не испытал этого чувства? Возможно, это был не страх, а постоянное чувство неуверенности. Только мы к нему привыкли. Зато тетя Лида была тронута до слез при виде наших девочек в школьной форме. Тетя до отъезда на Запад работала учительницей в Екабпилсской средней школе и заведовала интернатом для девочек. Она рассказывала, что в Англии только ученики специальных школ носят форму, а большинство одеты кто во что горазд. И это, она считает, плохо. (Я тоже так считаю. Мне кажется, школьники должны носить форму. Или это старческий консерватизм, ностальгия по былому? Думаю, что нет. Забыто и отброшено как ненужное и многое полезное и красивое.)
До самой пенсии я проработал на разных должностях в Ги-дрологической экспедиции Управления геологии. Механиком, мастером и инженером в механических мастерских, главным механиком и энергетиком экспедиции, прорабом. Морального удовлетворения от работы не получал почти никакого. Очевидно, мое предназначение было в другом. Но в чем? Сейчас трудно сказать. Скорее всего, в какой-то творческой профессии. Возможно, в архитектуре, строительстве, журналистике. Подростком, после проведенного в больнице полугода, я мечтал стать хирургом, а не летчиком или моряком, как в детстве. Я уже упоминал, что в первые годы после возвращения в Латвию мы с женой, особенно когда ютились в маленькой комнатушке, с ностальгией вспоминали Сибирь, романтику геологических экспедиций. Мне нравились русские кинофильмы и киножурналы о Сибири. Что бы там с нами не происходило, все-таки это были лучшие годы нашей жизни. Вся молодость.
Но много ли в те времена было тех, кто получал от своей работы удовлетворение? Нескольким поколениям было суждено жить во времена, когда для многих выбор профессии, которая действительно отвечала бы его желаниям, оставался проблемой. Не всегда проблема заключалась в политике, в лояльности, в прошлом. Были и другие причины. Например, получил человек образование по специальности, мог быть хорошим инженером, руководителем, но появилась семья, которую на жалкую зарплату интеллигента не прокормить, и он идет работать на конвейер, где не желающие учиться, необразованные парни и девушки зарабатывают больше инженера. Или же человек задумал купить автомашину или съездить за границу, и он выбирает физическую работу, да еще в нескольких местах, поскольку, работая инженером или «клерком», так называемым инженерно-техническим работником (ИТР), позволить себе этого не может. Даже дворник и уборщица имели право работать в нескольких местах (как «члены советов» в девяностые годы), а инженер нет. Рабочим поездку за границу наполовину, а иногда и целиком оплачивали администрация или профсоюз.
В советские времена меня всегда раздражал идиотский принцип - землекоп (фигурально выражаясь), который только копает, ничего больше не зная и ни о чем не думая, получал больше того, кто знал, где и когда копать, как глубоко копать и зачем вообще нужно копать. А ИТР еще должен был «нарисовать» землекопу зарплату, жульничать (о приписках, жульничестве, «туфте», о необходимости и неизбежности этого можно исписать немало страниц). Не одного старого убежденного коммуниста, в том числе Шурпе и дядю Диму, мне удавалось довести до белого каления, оспаривая идиотский лозунг «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!», доказывая вред и абсурдность принципа равного распределения, несправедливость, вызванную предоставлением рабочим привилегий и пренебрежительным отношением к интел-лигенции. Пишу я об этом потому, что многое из существовавших при социализме отношениях сегодня как бы забыты. Забыто все отрицательное, и кое-кого мучает ностальгия по прошлому, когда не было безработицы, потому что если кого-то и выгоняли за пьянку (что случалось очень редко), его тут же, по соседству, принимали на работу, так как рабочих рук не хватало. Золотые были времена для дураков, лентяев и пьянчуг. Охватывает ужас при мысли, до какой степени деморализации, деградации докатился наш народ (Маркс назвал бы это «люмпенизацией»), при виде того, как и в нашем народе стал возникать слой, который по-русски называют «чернь», «быдло» и для которого в латышском языке даже нет названия (мягко говоря, их можно называть «дрёмами»). Возможно, только благодаря толщине этого слоя в общей массе русского народа в России так долго могло существовать государственное устройство, которому и название подобрать трудно. Место выкорчеванной христианской религии заняла коммунистическая идеология, вожди народа и идеологи коммунизма были возведены чуть ли не в ранг божеств.
В России вступали в коммунистическую партию в основном из подлинной веры в то, что коммунизм - единственный счастливый вариант будущего. Слепо верили в то, что существует только один-единственный путь, другого нет и быть не может. Думать иначе уже было преступлением. Эта убежденность была сродни массовому психозу. Это в России. А в Латвии?
В России люди вступали в партию, ослепленные верой, не зная существа дела, в силу ограниченности, глупости, а латыши вступали в партию в основном чтобы выжить, сделать карьеру. Но надо ли воспринимать карьеризм только как негативное явление? Карьеризм всегда двигал и будет двигать человечество вперед. Разве можно упрекнуть вступивших в партию инженеров латышей, если русские отставные полковники с партбилетом в кармане лишали их возможности занять должность, которая по уровню их образования и знаний подходила им больше?
Были и в Латвии люди, которые вступали в партию по убеждению. В основном это были эмоциональные, экзальтированные представители творческой интеллигенции. Но и они в немалой степени надеялись, что принадлежность к партии поможет им лучшим образом реализовать свои замыслы. Вряд ли за это можно строго судить. Но, как говорится, дай черту палец, откусит руку. Бывало, шли и по трупам. И именно в среде творческих профессий. Это оправдать нельзя. Стыдно читать рецензии тех лет и преданные гласности протоколы партийных заседаний творческих союзов. Однако и самые большие заслуги в возрождении Латвии принадлежат творческой интеллигенции.
Среди значительной части латышского общества, в том числе среди людей умных и уважаемых, бытовало ошибочное мнение, что «идея» верна, только с воплощением ничего путного не получается. До какого-то времени я тоже считал так. Долго я находился под влиянием своих бывших товарищей по тюрьме и ссылке - старых, убежденных коммунистов. После падения власти коммунистов многие утверждали, что давно предвидели подобный исход и независимость Латвии тоже. Ни черта! Ложь и лицемерие! Таких было очень и очень мало. Большинство надеялось на постепенное переустройство системы, надеялось и верило в «социализм с человеческим лицом». И я тоже. Но чтобы этого достичь, следовало что-то делать, а не только рассуждать об экономическом положении и рассказывать в узкой компании политические анекдоты. Но если человек, вступивший в партию, убеждался, что он бессилен что-либо изменить, это была уже его личная трагедия или, скорее, трагикомедия.
Сейчас мы можем только гадать, что было бы, если бы латыши вообще не вступали в коммунистическую партию. Сейчас можно умно рассуждать и осуждать. Разве мало тех, кто после восстановления независимости последними словами ругая бывших членов партии, сам в недалеком прошлом рвался в партию и не был принят только из-за «квоты» (соблюдалась пропорция - двое- трое рабочих, один «простой смертный»). Кое-кто по нескольку лет ждал своей очереди и, не дождавшись, не унимался, ругая тех, кто успел. И те, кого выгнали из партии за пьянство или воровство, могли теперь гордиться. А что сделали во имя народа те, кто не состоял в партии и обливал грязью тех, кто в нее вступил? Может быть, ушли в леса? Может быть, взяли в руки автомат и отстреливали оккупантов? От коммунистического террора пострадали многие. Но очень мало было тех, кто пострадал за активное сопротивление. Сколько было таких, как Гунар Астра? Мы не очень-то можем гордиться своим движением сопротивления. (Если не считать послевоенную партизанскую борьбу.) У нас не было даже настоящих диссидентов, как в России. Даже антикоммунистическую литературу мы получали из России. Пусть простят мне мои слова те, кто действительно пытался бороться! Пусть простят те, кто больше не смог бороться, чьи силы и волю сломил российский ГУЛАГ.
Когда-то литовцы и эстонцы над нами смеялись - в Латвии, мол, потому столько русских, что мы не вступаем в партию. И это правда. Чтобы в первые послевоенные десятилетия занять в Латвии какую-нибудь должность, надо было быть или русским, или членом партии, или иметь безупречное прошлое. Прошлое русского никого особенно не интересовало, если только он не был связан с подозрительным «туземцем», например, жена или муж из местных. Но трудно было найти латыша, у которого, если не у самого, так у родственников, прошлое было кристально чистым. Многие латыши решали свои проблемы, вступив в партию. Надо признаться, что у меня особых проблем, которые заставили бы меня незамедлительно вступить в партию, не было, этим я оправдаться не могу. Может быть, только желание когда-нибудь побывать за границей, так как с моей биографией это было почти невозможно. Волновала и карьера дочери, так как мое прошлое могло сказаться на ее будущем. (При поступлении в университет у дочери спросили, почему она родилась в Сибири. Ее вразумительный ответ - потому что родители геологи - спрашивающих, похоже, удовлетворил.) О своей карьере могу сказать, что я уже твердо стоял на ногах и достиг тех высот, каких, по моему мнению, допускала моя компетентность. Я всегда был достаточно самокритичен, оценивая свои возможности и знания, так что подниматься выше у меня не было ни малейшего желания ни без партбилета, ни с ним. Но и «красным пугалом» партия для меня не была. Она уже давно утратила свою идеологическую роль и стала аппаратом высшей государственной власти, как в средние века церковь. Давно прошли времена, когда партбилет был главным фактором продвижения по карьерной лестнице. Чтобы занять руководящую должность, прежде всего надо было быть хорошим специалистом, и только потом - «при прочих равных условиях» - предпочтение оказывалось члену партии. В последние десятилетия круглых болванов в партию уже не принимали. И с уголовным прошлым тоже. И алкоголиков тоже. Но чтобы партия не превратилась в слишком интеллектуальную организацию, что могло стать опасным для самой высшей власти, пополнение партийных рядов велось в вышеупомянутой пропорции.
Если бы меня сейчас спросили, был ли смысл вступать в партию, я бы ответил
отрицательно. Не было никакого смысла. А если бы спросили, не сожалею ли я, что
вступил, я бы тоже ответил отрицательно. Ничуть не сожалею. В жизни стоит все
попробовать. Если только это не чревато проблемами для других. Надо признаться,
что мое вступление в партию объясняется любопытством. И еще - старый Сократ
говорил: «Если стоишь в стороне - глупец может делать все, что захочет».
А кое-кому стоит вспомнить слова Фридриха Ницше: «Только тот имеет право судить
прошлое, кто трудится во имя будущего».
Я был человеком активным. Не из тех, о ком говорят: в каждой бочке затычка, но так получалось само собой. С большой неохотой я согласился стать «боссом» профсоюзной организации. Избирался на эту должность три года подряд. Многие годы был председателем группы народного контроля экспедиции. И тут я убедился, что контролировать можно только «на уровне дворника». «Копать глубже» означало вредить собственному «здоровью». Даже партбилет не помогал. Именно будучи в партии, возглавляя профсоюз и народный контроль, я понял тупость и вред социалистической системы и убедился, что и член партии бессилен на что-либо повлиять, как я думал и надеялся раньше. Даже партийные секретари достаточно высокого уровня в действительности были лишь исполнителями.
Вступив в партию, латыши потеснили в послевоенные годы представителей других национальностей, которые занимали должности только потому, что были русские и воевали. И, самое главное, на «правильной» стороне. Большой проблемой в послевоенной Латвии было разделение ветеранов войны на «хороших» и «плохих». К тому же большинство «хороших» были русские, большинство «плохих»-латыши. И в нашем Управлении геологии было полно «хороших» ветеранов разного ранга, большинство из которых, как выяснилось позже, были не на фронте, а в СМЕРШЕ (военная контрразведка), в комендатурах и в чека. Производству от них никакой пользы не было, но, как я уже упоминал, их необходимо было устроить на работу подчас по телефонному звонку «сверху». Самая большая несправедливость заключалась в том, что уровень образованности и интеллигентности воевавших не на «той» стороне в целом был намного выше, чем у воевавших на «правильной» стороне. И зачастую талантливые люди, которые уже много дали и еще больше могли дать, занимай они высокие должности, не могли этого достичь, потому что биография их была «запятнана». И ничего нельзя было изменить, ничем нельзя было помочь. И с партбилетом в кармане. В этом я убедился сам.
Профсоюзная работа была чистой воды комедия, иллюзорное отстаивание интересов «трудового народа». Профсоюз был послушным исполнителем указаний партии, значит, государственной власти. «Профсоюзы - школа коммунизма!» - так было написано в членском билете. Единственный плюс, который я и себе могу поставить, было желание оживить спортивную работу и туризм. Будучи председателем профсоюза, я накупил туристских и спортивных принадлежностей. Конечно, в основном потому, что и сам был в этом заинтересован, но оживить спортивную жизнь в экспедиции мне удалось.
Важной причиной моего согласия стать председателем профсоюза была надежда хоть
как-то улучшить собственные бытовые условия. Надеялся, что, может быть, и
партбилет поможет избавиться от соседа. Вначале мы были бесконечно счастливы,
что получили квартиру, пусть и коммунальную, вместе со старым чекистом, но очень
скоро сосед, с которым приходилось делить кухню, уборную, ванную комнату, стал
невыносим. Но ни мое членство в партии, ни профсоюзная деятельность не помогали.
Жилплощадь была большая, а остальное никого не интересовало. Только в результате
многочисленных обменов после двенадцати лет совместной жизни сначала со старым
чекистом, потом с семьей какого-то алкоголика нам удалось остаться в квартире
одним.
С конца шестидесятых годов серьезное место в моей жизни стал занимать туризм,
особенно водный. Возможно, для этого я и был создан. Если бы была возможность, я
путешествовал бы постоянно. Когда-то мечтал - выйду на пенсию, буду
путешествовать. Летом по северу, зимой по южным рекам. Но... человек
предполагает, а Бог располагает.
Началось все с походов вместе с женой и дочкой, с друзьями и их детьми, ровесниками дочери, во время отпуска или в конце недели по рекам Латвии и ближайших российских областей. Интересное, незабываемое время. И не только как отдых. Неоценима роль туризма в воспитании детей. Именно «дикий туризм» с рюкзаком на спине, пешком, на лодке, с ночевкой в палатке (случалось, и заснеженной), вечера у костра, ароматная уха, ливни, грозы, комары и все прочее, что надолго остается в памяти, запечатлено на фотографиях, на диапозитивах и в фильмах, зимой обсуждается при планировании походов будущего года. Незабываемые времена!
В конце семидесятых годов начался новый этап моего увлечения. Я приобщился к большому спортивному туризму. Это были прекрасные времена - расцвет латвийского туризма. Вокруг клубились серые облака застойных времен Брежнева, Восса, Андропова, Пуго и Черненко, а нам все было «до лампочки». Головы наши были заняты совсем другими, гораздо более интересными вещами.
Туризм в те времена было занятие непростое, но захватывающее и творческое. Туристские маршруты становились все сложнее, и серьезных туристов уже не удовлетворяло тяжелое, неудобное туристическое снаряжение, которое производилось в России. Ведь приходилось таскать его на спине десятки километров. Все завидовали тому, кто умудрялся достать кусок парашюта для палатки, легкий, непромокаемый материал для тента, тент автофургона для строительств байдарки. Не удовлетворяли тяжелые, когда-то с трудом добытые байдарки, тяжелые спасательные плоты, которые доставали у моряков. Байдарки переделывали, усовершенствовали, дополняли, заменяли легкими, сделанными своими руками. Днями и ночами клеили, шили, клепали, натягивали, гнули.
Началась эра катамаранов. Из чего их только не делали! Какими только способами не доставали материал для байдарок и катамаранов, рюкзаков, спальных мешков и палаток! Ведь абсолютно ничего нельзя было купить. Метод был один - «пять пальцев и немного страха». Воровство? Какое же это воровство, если все это для иво для туризма? Это же воровство не для себя лично, а для туризма. Туризм превыше всего! Высокая цель оправдывает средства. О туризме тех лет можно было писать приключенческие романы, снимать кинофильмы. А за кое-какие делишки и уголовное дело можно было схлопотать...
Было немало курьезов. В начале восьмидесятых появился на редкость легкий материал - пенопласт. Заполучить его была «голубая мечта» каждого туриста. Он годился для спасательных жилетов, ковриков, был прекрасным теплосберегающим материалом для зимнего туризма. Говорили, что в пенопласт пакуют импортную аппаратуру, которую получает какой-то Ленинградский военный завод. Возвращаясь из туристского похода по Карелии через Ленинград, мы всей группой отправились на электричке на свалку в район Гатчины. В нашей группе была дама из Ленинграда, от нее мы и узнали адрес. Ползали, как бомжи, по огромной свалке, шестами и веслами копались в отходах, вытаскивали белые куски пенопласта (белизны и в помине не осталось) и укладывали их в полиэтиленовые мешки. Это была промышленная свалка, так что ничего омерзительного, гниющего и смрадного здесь не было, но пыли мы наглотались достаточно. А когда на свалку прибыл целый состав с угольным шлаком, думали, нам конец, потому что ветер дул в нашу сторону. В Ленинград вернулись грязные, но счастливые. На вокзале, увидев содержимое наших прозрачных мешков, нас обступили туристы, которых летом в Ленинграде транзитом всегда было полно, и засыпали вопросами, где нам удалось достать такое богатство. Узнав где, и они тотчас подались в Гатчину.
Был случай, когда мы, три туриста, ночью решили «позаимствовать» алюминиевые трубы на складе металла возле Лубановского моста. Мы - это трое солидных (во всяком случае, с претензией на солидность) мужчин - один врач-психиатр, второй инженер и третий - ваш покорный слуга. Первые двое, правда, еще молодые ребята, а мне уже за пятьдесят. Вовсю светила луна, а мы в тени железнодорожной рампы пилили трубы чтобы они по длине поместились в «Москвиче». Чтобы приглушить жуткий звук распиливаемого алюминия, приноравливались к часто проезжавшим мимо поездам.
Подобные переживания, вероятно, знакомы только старым туристам советских времен. Сегодня таких проблем с материалами уже нет. Ничего не надо ни делать, ни конструировать самим. Все можно купить, были бы деньги. Но своя романтика, свой «кайф» был в тех трудностях и проблемах, в том, чтобы смастерить инвентарь своими руками.
А веселые соревнования, когда берега еще покрыты снегом, когда вместе с последними лыжниками, возвращающимися с Гайзиньша, и водники возвращаются с первых соревнований на Амате или Иецаве!
Амата, Огре, Югла, Дивая! Маршрутные квалификационные проверочные матчи в Огре у Айвиекстской ГЭС накануне сложного маршрута, заключительные соревнования сезона в Циецере! Радость и азарт! Вечера у костра, песни под гитару, шутки, розыгрыши. И неважно, какая погода - дождь ли, снег, да пусть хоть камни падают с неба!...
А путешествия во время отпуска, когда, спустя месяц, возвра-щаешься из «джунглей» и смотришь - все те же полощутся красные флаги? Не сменилась ли надоевшая советская власть?
Туристы, как и геологи, в каком-то смысле были диссидентами. Объездив весь громадный Союз, они знали, что подлинная жизнь народа сильно отличается от представленной на страницах газет. И молодежь, путешествуя вместе с родителями, очень быстро усваивала эту истину, правда, немало усложняя себе этим жизнь, ведь из такого человека уже не мог вырасти безоглядный патриот. О виденном и пережитом во время таких путешествий можно рассказывать бесконечно. Как и о том, что за десятилетия в российских деревнях и провинциальных городках ничего не менялось. Возможно, только в худшую сторону. Нищета, алкоголизм, полная «безнадега» на всей обширной территории, которая называлась Союз Советских Социалистических Республик, но которая, по сути, была все та же Россия, что и в царские времена.
Карелия, Карпаты, Саяны, Урал, Таймыр, Путораны! Путо- раны стали вершиной моего туристского этапа жизни. Моим «Эверестом»!
Рассказ о перипетиях своей жизни я начал с упоминания о путешествии на Путораны, ибо, если бы не этот поход по местам моей юности, возможно, не было бы рассказа и о моих позднейших посещениях бывших мест заключения и ссылки депортированных из Латвии. Именно поэтому мне хочется посвятить несколько страниц этому путешествию, хотя каждое было интересным и достойным описания.
В 1983 году меня пригласили принять участие в походе на Таймыр, по рекам Путоранских гор. Я с восторгом ухватился за это предложение. Путораны привлекали меня еще и потому, что это был почти не освоенный туристами регион, но главное - неподалеку были места моей ссылки, дороги моей юности. Это, кстати, была и одна из причин сделанного мне предложения, так как мою биографию знал один из моих сотоварищей по туристским походам Зигурд Шлице. С остальными участниками группы мне еще не приходилось встречаться, но они уже побывали в Путоранах. Руководителем группы был Рудис Калковскис.
Самолет должен был доставить нас в Норильск, но по какой-то причине мы приземлились в аэропорту Игарки. В моей «милой», старой Игарке! Но аэропорт - это была еще не Игарка. Аэропорт находился на острове Медвежьем, с городом поддерживалось паромное сообщение, паром курсировал редко. А поскольку о продолжении нашего полета ничего не было известно, отправляться в город было рискованно. И тут я вспомнил, что в Игарке будто все еще живет друг моей юности, один из тех, кто выжил в Агапитово, - Леопольд Барановские. Зашел на милицейский пост и спросил, не знают ли они некоего Барановскиса. «Леопольда Антоновича? Кто же в Игарке его не знает? Он почетный гражданин города, самый уважаемый человек! Сейчас моторку за ним отправим». Не прошло и часа, как ребра мои затрещали в объятиях громады бородача. Только борода была бела, как снег, как и мои волосы. Прошло тридцать лет. О многом хотелось поговорить, а в нашем распоряжении был всего час. Леопольд рассказывал, что во время охоты не раз ночевал в срубленных мною избах на Филькином острове, был и в Плахино, где осталось всего несколько домов. Избы в Сопочке и в проклятом Агапитово сгорели. Кажется, уже тогда во мне зародилась мысль совершить путешествие по дорогам моей юности. Мы попрощались, договорились переписываться и обязательно встретиться. И все это исполнилось, только не очень быстро.
Самолет приземлился в норильском аэропорту Алыкель, между Дудинкой и Норильском.
Дальше предстояло добираться по знаменитой железной дороге Дудинка - Норильск.
Сколько мы слышали об этой дороге! Сколько жизней она забрала! Из группы я знал
только Зигиса, однако ни мыслей его, ни его отношения к прошлому, к тому, что
здесь когда-то происходило, я не знал. Шел только 1983 год. Кремлевские старцы
начинали умирать, но еще не очень интенсивно. Началось время Андропова, и только
Богу было известно, чего можно было ждать от этого «интеллигентного» чекиста в
очках. Я не боялся ни тюрьмы, ни лагеря. Боялся «психушки». Это был расцвет эры
психиатров-чекистов. А попасть книмвлапыв то время было очень просто.
Коммунистическая власть уже начала агонизировать, и потому была особо опасной.
После долгой поездки по тундре мимо запущенных, обкрошившихся станционных
зданий, мимо мрачного Кайеркана с сохранившимися еще кое-где сторожевыми вышками
и колючей проволокой поезд въехал в Норильск, на станцию «Октябрьская». Слева
раскинулся город. Начинался он с Гвардейской площади с традиционным Лениным.
Отсюда главный городской проспект Длиной в несколько километров тянулся через
весь город. Справа гора, названная именем ученого Отто Шмидта, в народе Шмитиха.
На вершине горы - металлургические заводы. Там же стояла изба знаменитого
геолога Урванцева, превращенная в музей. Отсюда когда-то начался Норильск. Недра
Норильска хранят чуть ли не всю таблицу Менделеева. Главные заслуги в открытии и
разработке месторождений принадлежат советскому геологу Урванцеву, который, как
настоящий советский ученый, тоже отсидел свое здесь, в Норильских концлагерях.
Преподавать геологию в им же организованном техникуме Урванцев ходил в
сопровождении конвоя. Невероятно? Невероятно и непонятно только для англичанина
или американца и «разных прочих шведов». Советскому человеку это понятно, и он
не видит в этом ничего экстраординарного. «Такие были времена». Святой
обязанностью каждого порядочного советского гражданина и особенно образованного
была хотя бы краткая отсидка за решеткой.
Десятки труб выбрасывали плотные ядовитые облака газов, в них куталась не только Шмитиха, но и окрестности, а нередко и город. Ядовитые газы текли по долине на север и юг, то есть в направлении главенствующих здесь ветров. Пример Норильска доказывает, какой вред может нанести природе один город, один промышленный центр даже на бескрайних северных просторах. На сотни километров к северу и к югу от города природа, как шутят юмористы, была превращена в «окружающую среду». Но, глядя на все это, было не до смеха.
Надежда, что совсем скоро мы начнем копать веслами воды Путорана, растаяла в первый же день. Чувствовалось, что наше появление в этом регионе никого особенно не радует. На вертолетной базе в Вальке просидели пять дней. Улетела московская группа туристов, руководимая известным исследователем Путоран Афанасьевым. На озеро Лама ушла группа туристов из Горького, чтобы на барже добраться до восточного берега, а дальше пешком. Вначале и у нас возникла мысль идти этим же путем, но пришлось от нее отказаться, так как слишком тяжелы были рюкзаки и слишком далек путь. Километров сорок-пятьдесят. Да и не столь молоды мы были, как туристы из Горького. И не так хорошо экипированы. О трагической судьбе этой группы мы узнали в конце нашего маршрута.
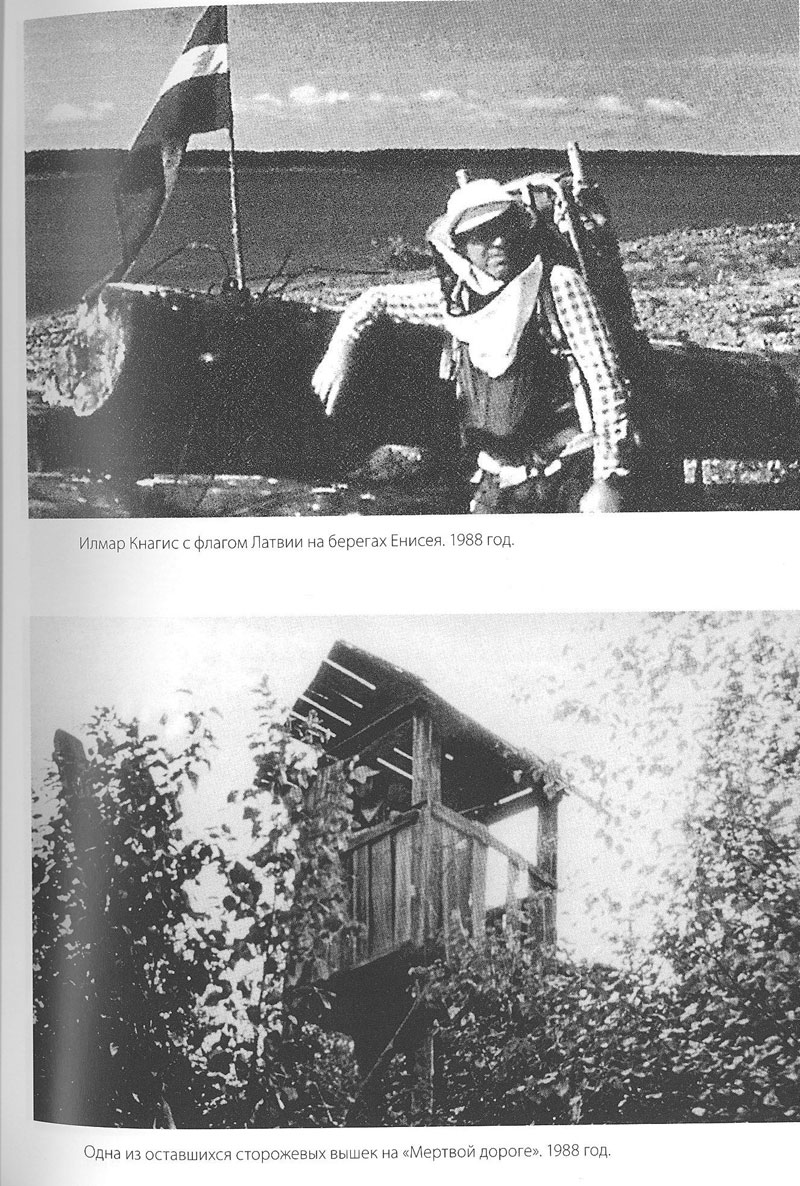
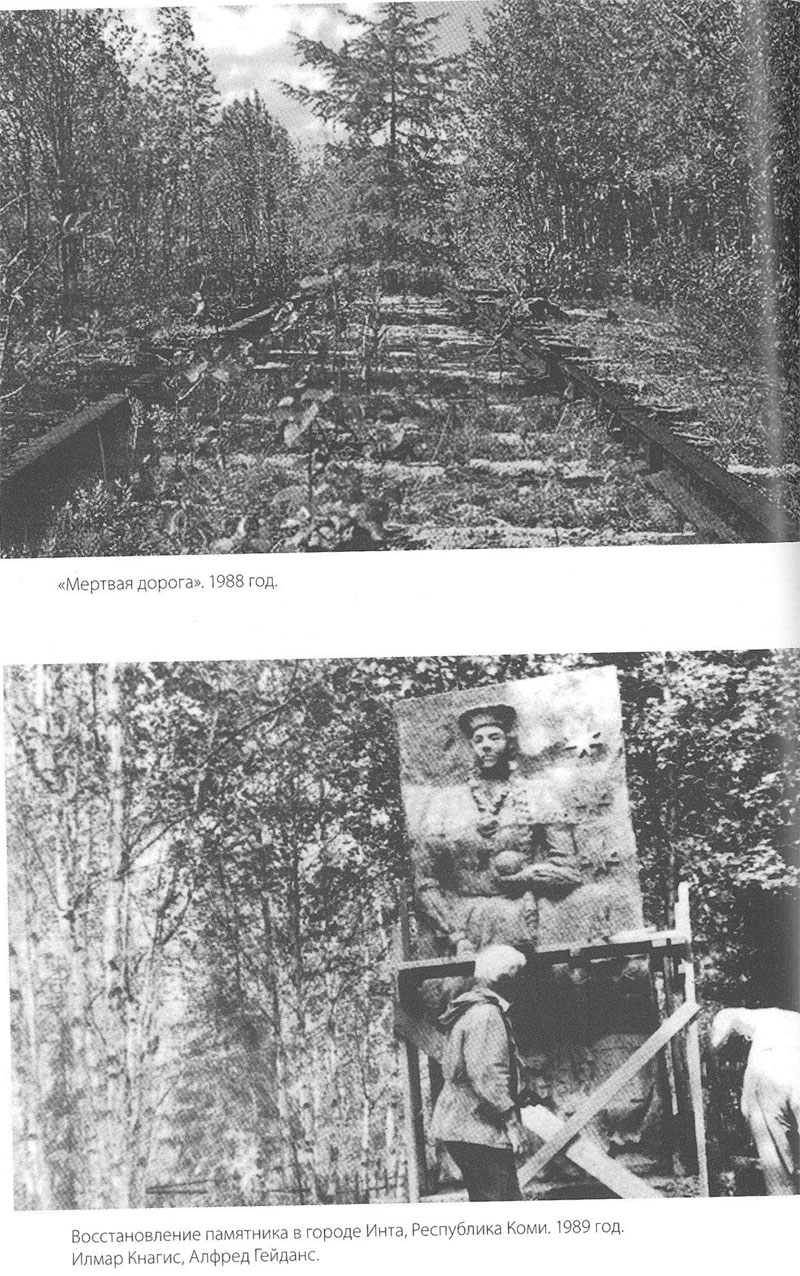

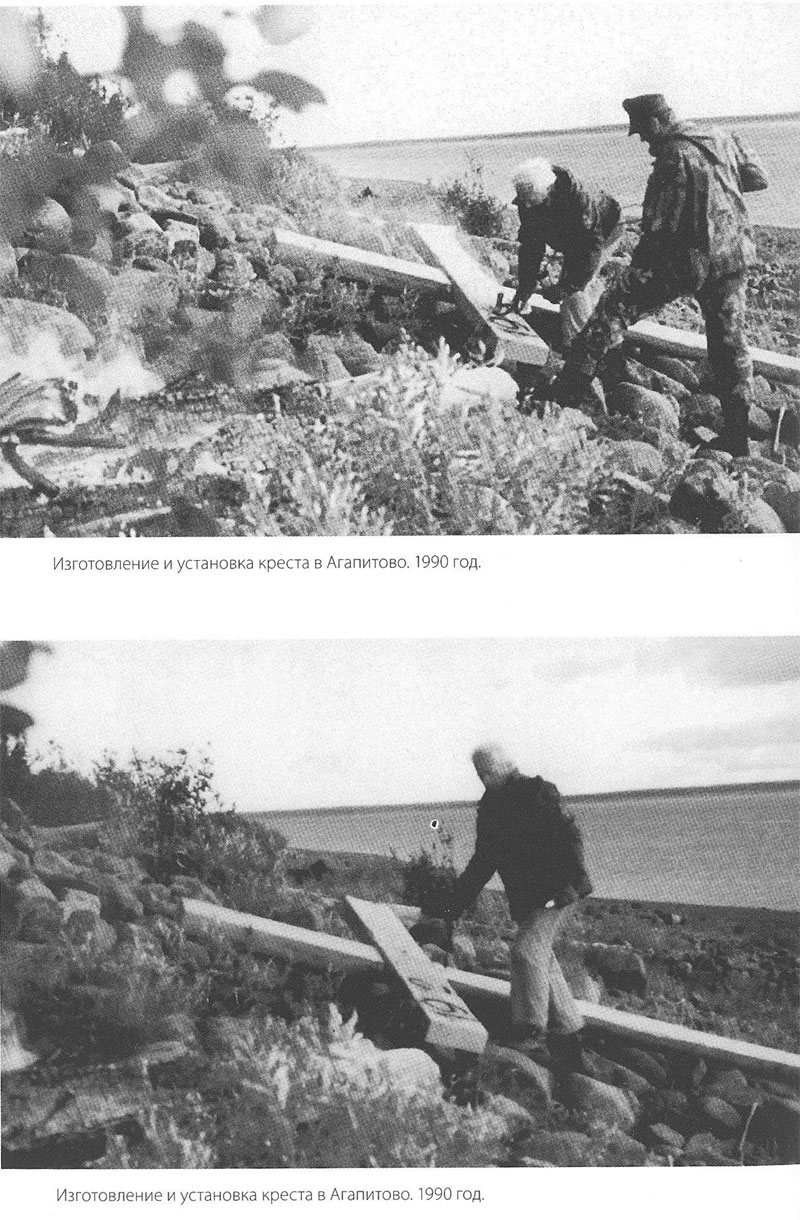
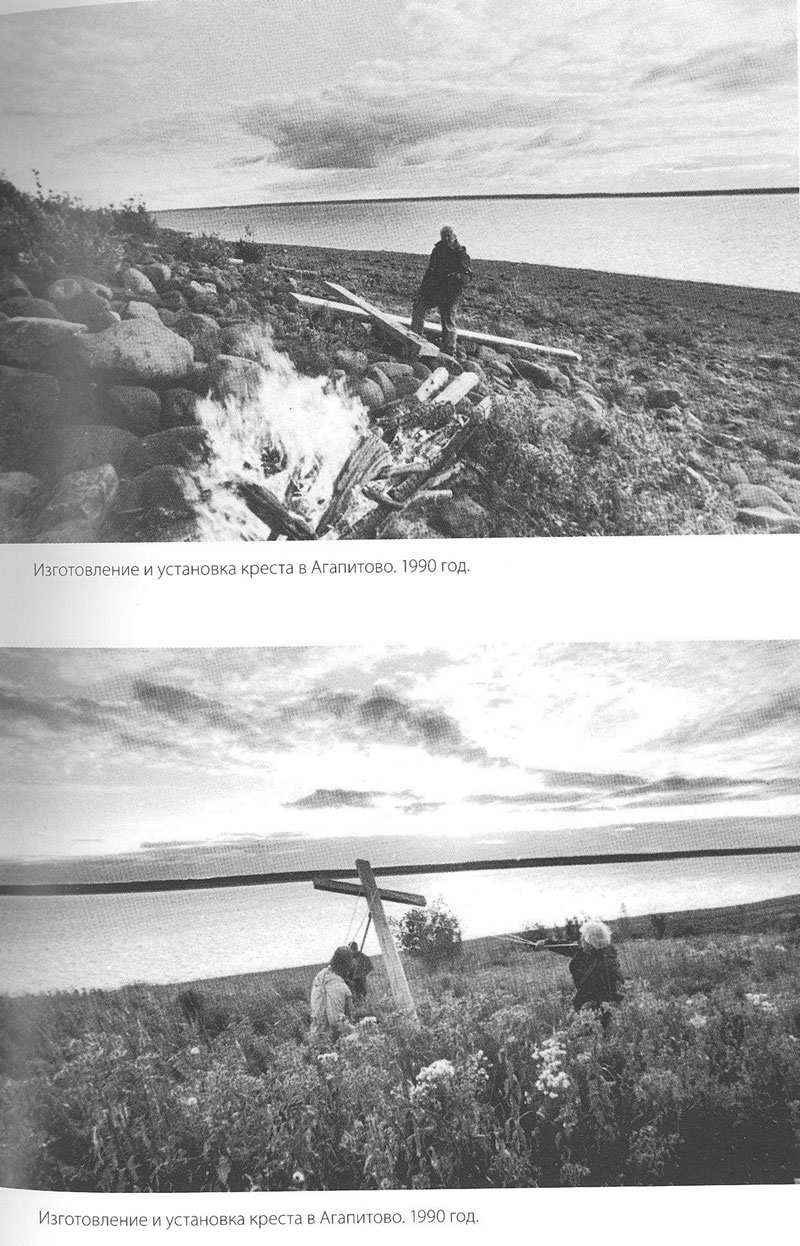

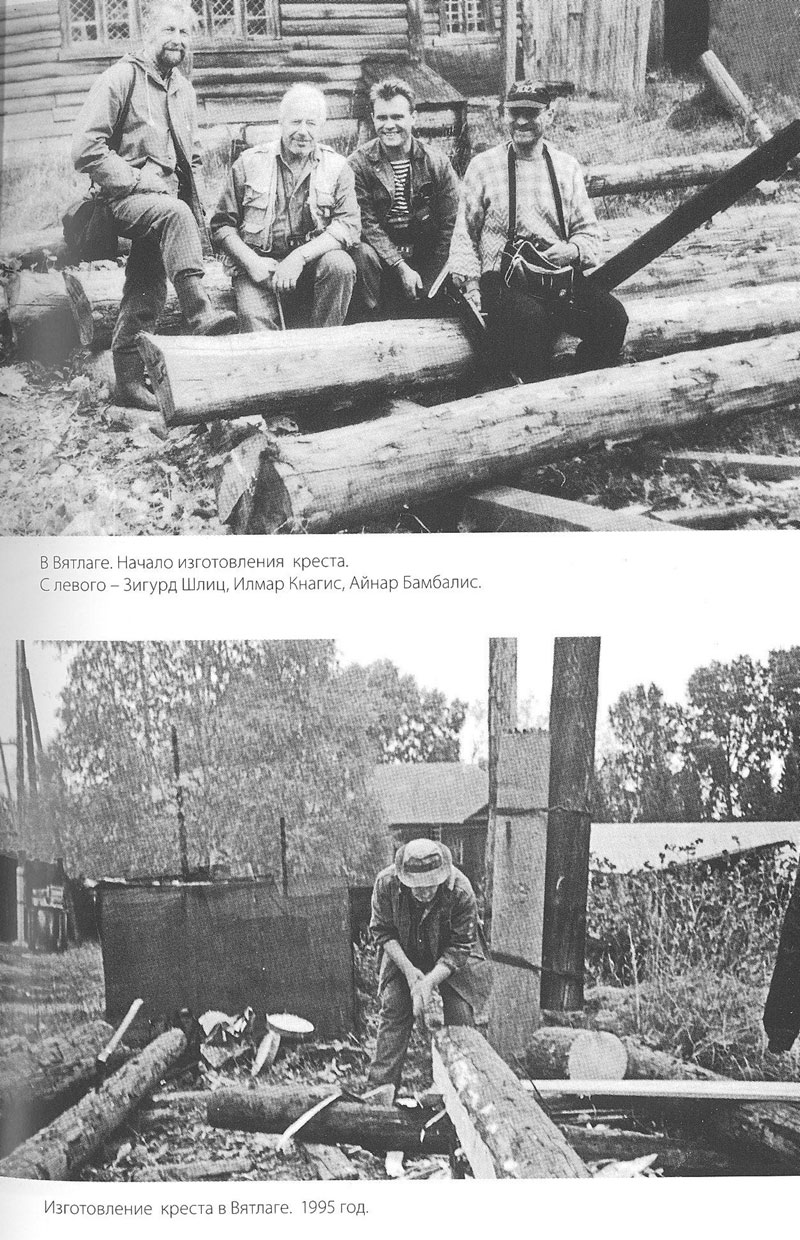

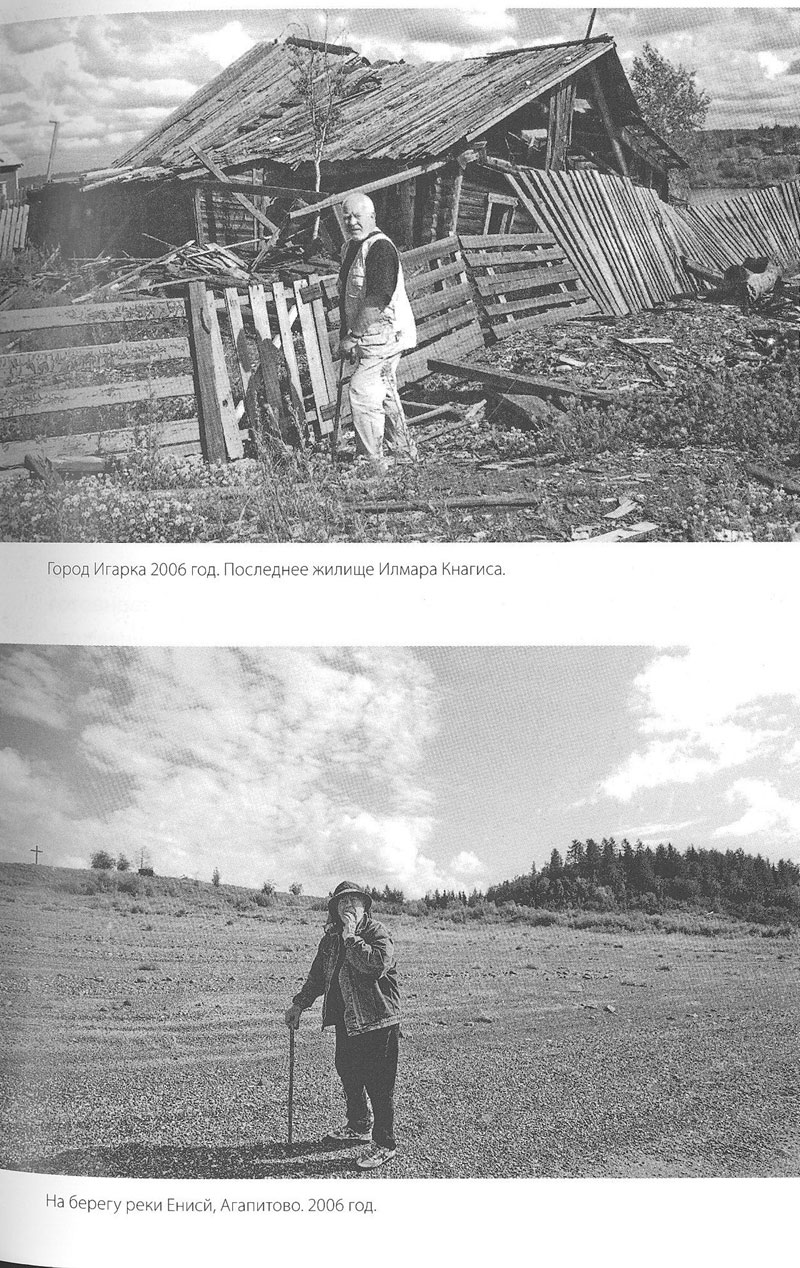
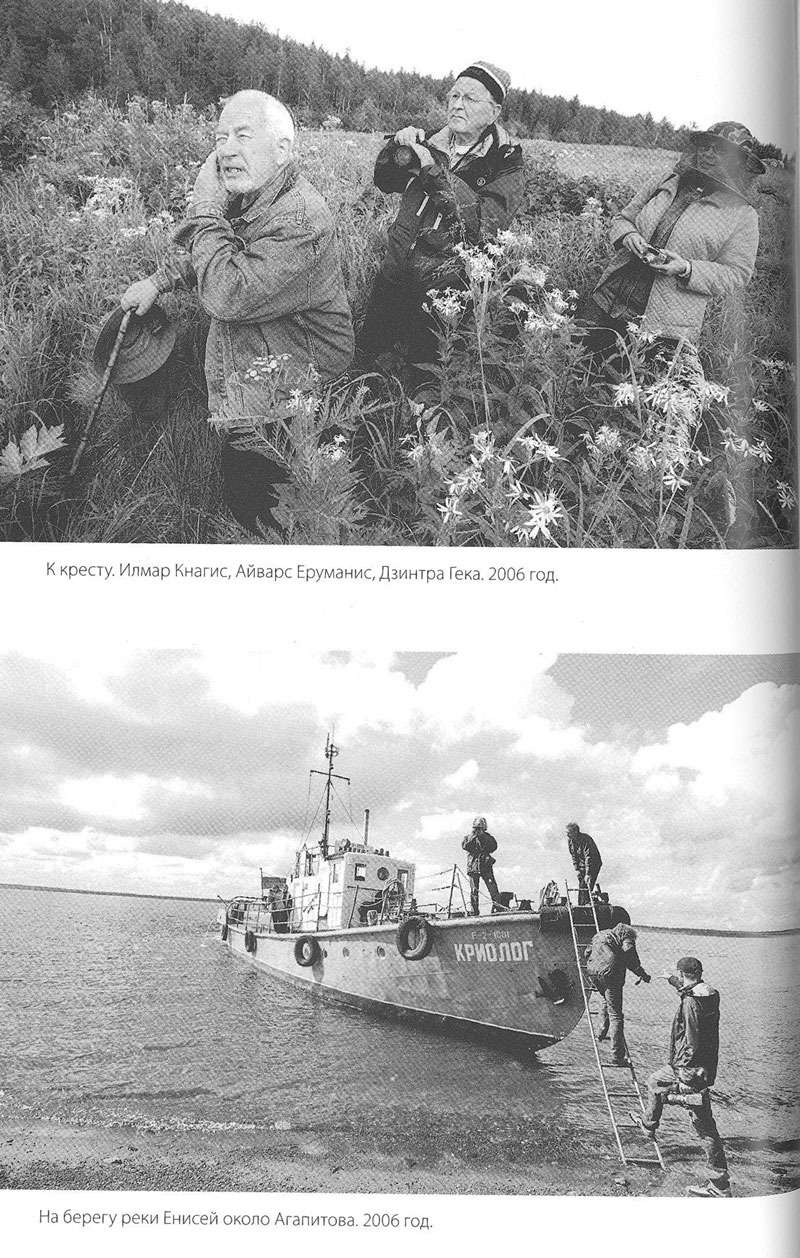
Регулярных рейсов в те места, куда мы собрались, не было. Рейсы были случайные, только обеспечивающие нужды экспедиций. На третий день начали, наконец, взвешивать наш багаж, диспетчер выписывала билеты, но раздался неожиданный телефонный звонок: Норильск запретил рижской группе, то есть, нам, вылет. «Борт» улетел без нас. Мы были в шоке. Какой-то загадочный товарищ - Петухов - наложил вето из каких-то экологических соображений. После продолжительных телефонных переговоров и аудиенций нашего руководителя в различных инстанциях разрешение было все-таки получено, только не было и не предвиделось ни одного летающего транспортного средства. Оставалось ждать. Весь рабочий день мы просидели в Вальке в готовности номер один. Когда стало ясно, что шанса улететь в этот день уже не будет, автобусом мы уехали в Норильск. В нашем распоряжении были светлые полярные ночи.
Сходили в краеведческий музей. Я надеялся найти там кое-что о подлинной истории города. Из услышанного в свое время. Но не нашел ничего. Только обычная советская героика, героика освоения полярных районов, героические дела добровольцев - коммунистов и комсомольцев.
Поехали в город-спутник Талнах, расположенный киломе-трах в двадцати восточнее Норильска, на склонах Путоранских гор. Этот город оставил хорошее впечатление. Но что произойдет лет через тридцать с этим сегодня действительно привлекательным городом, расположенным на трех поросших лесом горных террасах? Что произойдет с этим удивительно прекрасным краем в будущем, если будет продолжаться столь же безответственное отношение к природе и будущему людей? Большой урон нанесен и природе Латвии, но я не могу равнодушно смотреть на то, как гибнет тундра, как миллионы гектаров тайги уходят под воду, тонут в искусственных морях Сибири, как происходило это при строительстве Братской, Курейской, Хантайской гидроэлектростанций и др. Немало таких и в Европейской части Советского Союза. Слишком невелик наш «шарик», и все, что происходит в далекой Сибири, когда-то может аукнуться и в Европе. (Эти написанные в 1988 году строки я оставил, потому что ничто не изменилось, а если и изменилось, то только в худшую сторону.) Не раз я задумывался о том, как выглядел бы север Сибири, если бы там хозяйничали американцы или японцы. Во время путешествия по Северу перед глазами мелькали кадры фильма о столице Аляски Фербенксе с его красивыми коттеджами, зелеными парками и великолепными окрестными дорогами. Когда японской делегации показывали фильм о сегодняшних Курилах, они плакали, топали ногами от возмущения. Неужто же русский народ никогда не сумеет навести хотя бы элементарный порядок в своей собственной стране и не перестанет, наконец, учить других? Кое-кто из моих спутников, конечно, удивлялся тому, как сумели русские построить такой город в условиях вечной мерзлоты, меня же потрясло состояние, в котором находился город, и экологический кошмар, царивший в его окрестностях.
В Норильске со мной произошел странный случай, один из самых странных, необъяснимых в моей жизни. Как-то вечером во время очередной прогулки по городу мы зашли в кинотеатр. Показывали детектив по роману Агаты Кристи. Кто-то из героев фильма страдал сенной лихорадкой. Выйдя из кинотеатра, я минут через десять начал чихать. Из носа потекло. Насморк продолжался и на следующий, и на второй день, никакие лекарства не помогали. Так продолжалось день за днем. Пока...
Только на шестой день мы, наконец, сели в вертолет. Команда геологов летела на реку Аякли искать пропавшего минувшей осенью геолога. Не его самого уже, но его бренные останки. Место, куда нам надо было попасть, находилось как раз на полпути.
Местом нашего старта были намечены озера Богатырь или Нёралах, но оба были еще подо льдом. А было уже 20 июля. Наконец увидели небольшое зеркало воды. Это было озеро Негу-Икэн, резервный вариант нашего маршрута. Тут нас и высадили. Вокруг только камни и цветы. Ни травинки. Не видно даже мха. Цветы фиолетовые, похожие на наш львиный зев, только очень мелкие. Они почти не пахли, как, впрочем, все сибирские цветы, но на следующий день, проплывая вдоль озерных берегов, покрытых миллиардами цветов, мы все время находились как бы внутри легкого, удивительно ароматного облака.
Трудно передать, что испытывает человек, следя за исчезающим за горами вертолетом. Прервана последняя связь с цивилизацией. И прервал эту связь ты сам, и добровольно. Прервал потому, что после долгих месяцев, прожитых в шумном городе, в рутинной работе, в постоянном стрессе, возникает горячее желание забраться в пещеру или влезть на дерево, как наши предки, и крикнуть так, чтобы все медведи и саблезубые тигры в округе услышали, что явился царь природы (который, правда, ничего дурного не собирается им сделать). Хочется почувствовать мозоли от весел и топора, сбросить килограммов пять лишнего веса, ощутить налившиеся силой мышцы. Словом, почувствовать себя мужчиной, а не придатком телевизора или тахты.
Высадили нас на самом берегу. Собрать спиннинг - минутное дело. Первый заброс, и трехкилограммовый голец - путоранский лосось - летит на берег. За ним второй, третий. И вдруг я заметил, что нос мой больше меня не тревожит. От насморка не осталось и следа.
Берега озера были образованы громадными завалами камня. Местами с них падали пенистые потоки воды. Я стал подниматься по каменным грядам все выше и выше, и вдруг мне стало страшно. Местами огромные валуны природа накидала так небрежно, что, казалось, стоит коснуться их пальцем, и вся груда рассыплется, словно карточный домик.
Озеро лежало в глубокой котловине, и когда солнце скрылось за озерными берегами, нас объял ледяной холод, а через несколько часов мы проснулись от жары. Солнце вновь освещало наши палатки. Ночью северный ветер согнал лед в южную оконечность озера, и с большим трудом нам пришлось преодолевать метр за метром.
На берегу не было ни одного деревца, ни одного кустика. Мы заранее это
предвидели, и готовили на бензиновом примусе. Параллели, по которым мы
двигались, были расположены не в тундре, а в лесотундре, однако точка отсчета
нашего похода на-ходилась в тысяче четырехстах километрах над уровнем моря, где
царил так называемый закон вертикальной зональности.
На берегах озера белели оленьи кости, на каждой нашей стоянке мы находили
медвежьи следы и испражнения. На одном из многочисленных пригоркв торчала
сгнившая, поросшая мхом деревянная пасть, какие я мастерил в юности на зайцев.
Пришлось объяснить спутникам, что это за устройство и как действует.
Два дня мы бороздили двадцатикилометровое озеро, рассекая веслами воду, а кое-где и лед. Лососем наелись до отвала. В северной оконечности озеро сужалось и заканчивалось водопадом. Начиналась река Негу-Икэн, которая через пару сотен метров исчезла под огромным ледяным панцирем, испещренным медвежьими следами и испражнениями. Река пробивалась сквозь многометровую толщу вечной мерзлоты, местами совершенно исчезая. После ледяного поля оставалось всего несколько километров воды, свободной ото льда, а потом почти тридцать километров пришлось преодолевать пешком по берегу, так как река текла среди каменных россыпей, от которых свободны были только несколько участков. Преодолевая один из таких довольно длинных участков по быстрой воде, пробираясь вдоль прибрежных кустов, я потерял свою «штормовку». По лег-комыслию я засунул ее под веревку, которой к катамарану были привязаны рюкзаки. В кармане штормовки были компас и часы. Остановились поесть и отдохнуть. Усталые, как собаки. Только тут я заметил пропажу. Стиснув зубы, преодолевая мучительную усталость, я вернулся назад - искать. Прошел несколько километров, осматривая в бинокль кустарник на противоположном берегу. Увидел только свежие, недоеденные оленьи кости. Стало неуютно. Казалось, из дальних кустов за мной кто-то пристально наблюдает. Я повернул назад.
Мы оказались в настоящем медвежьем царстве. Не было никаких следов, которые бы свидетельствовали, что за последние сто лет здесь побывал человек. Когда мы поставили палатки и развели костер, принялись осматривать место стоянки. В нескольких сотнях метров от нее увидели огромную медведицу с двумя медвежатами. Медведица лежала на скалистом выступе в позе «Голой махи» Гойи. Медвежата играли и дрались. Когда они попытались приблизиться к нам, чтобы познакомиться, оба получили шлепки от «няньки» - подростка из предыдущего помета. (В медвежьем обществе практикуется институт нянек, где в качестве воспитателей выступают медведи-подростки.) Соседство оказалось не из приятных, но делать было нечего. Разожгли основательный «таежник» - костер из положенных крест накрест бревен - и завалились спать, выставив охрану из одного человека. Через некоторое время медведи исчезли. Глядя на эту таежную семейную идиллию, я снова подумал - как же можно поднять ружье на красавца зверя, так похожего на человека? Тем более если он не сделал тебе ничего плохого.
Долина реки Негу-Икэн удивительно живописна. Это мы отметили, несмотря на жару, комаров и мошку, несмотря на то, что приходилось перепрыгивать с камня на камень, все время смотреть, куда поставить ногу, куда сделать следующий шаг. В наших условиях любая травма могла стоить нам жизни, так как мы находились слишком далеко от жилья.
Через несколько лет после нашего путешествия организованная «Комсомольской правдой» экспедиция отправилась в пеший туристский поход по побережью Северного Ледовитого океана. Газеты и журналы писали о трудностях, о высокой сте-пени риска, чрезвычайных ситуациях и пр. Но за экспедицией велось постоянное наблюдение, с ней поддерживали радиосвязь и даже сбрасывали с вертолета все, что было необходимо. Комментарии, как говорится, излишни.
Природа вокруг стремительно менялась. Уже через не-сколько дней мы оказались в местах, где росли небольшие, но на редкость уродливые лиственницы. Через четыре дня тяжелой ходьбы, плавания, скольжения и карабканья по камням мы достигли следующей реки - Колтамы.
Удивительная, незабываемая Колтамы! Сорок захватывающих порогов, каньоны, черные базальтовые скалы с дымчатым горным хрусталем в расщелинах скал, поля белых камней, черные песчаные пляжи, испещренные волчьими и медвежьими следами и усыпанные белыми оленьими костями. Только лососи уже почти не ловились. Да они и надоели. Пришел черед хариуса.
Колтамы впадает в Аян. Пошел дождь вперемешку с мокрым снегом. С отвесных, высотой в сотни метров речных берегов, окутанных серыми облаками, вниз устремились пенистые потоки. Уровень воды в реке мгновенно поднялся на несколько метров. Река безумствовала. Даже воздух дрожал, как натянутая струна. Прошло несколько дней, погода исправилась, и снова пошли красивые берега, редкие, но сердитые пороги, водовороты и стремительные течения, которые, случалось, в мгновение уносили лодки в разных направлениях, и нас уже разделяли несколько километров.
После слияния Аяна и Аякли начиналась Хета. Она была широка, как море, и однообразна, по выражению туристов, как «собачая песня», но это был неизбежный конечный этап путешествия по плато Путорана, потому что чуть ли не все реки Путо- рана впадали в Аян или Аякли. Путешествие наше закончилось в далекой таймырской тундре, в населенном пункте Волочанка, единственном обжитом месте на сотни километров вокруг, откуда только вертолетом можно было попасть на «большую землю». Если повезет. За несколько дней до нас в Волочанку прибыла московская группа Афанасьева. И тут летчики сообщили нам страшную весть о трагедии, постигшей горьковчан. Оба катамарана группы оказались в центре двадцатипятиметрового водопада. Внизу из воды поднимались острые зубцы базальта. Спаслись только двое, так как еще до водопада выпрыгнули из катамарана и выплыли на берег. Полуживые от холода и голода, они с трудом добрались до озера Лама, где их подобрали случайные рыбаки.
Мы их хорошо запомнили - семерых парней и одну девушку. Они были прекрасно экипированы - в легкие, сшитые из парашютного шелка импрегнированные костюмы, с такими же рюкзаками. Группе предстояло преодолеть тысячу километров за тридцать дней, причем самый длинный отрезок пути был рассчитан на пеший переход. Были они почти у цели. К походу готовились серьезно, тренировались два года. Но мы еще на вертолетной базе в Вальке обратили внимание, что маршрут на их картах нанесен довольно небрежно. Впоследствии выяснилось, что это и стало причиной катастрофы. Водопад на карте был обозначен неясно, легкой черточкой, на которую они не обратили внимания. Но больше всех, конечно, виноват руководитель: не проведя разведку, группа вошла в незнакомый каньон, где пороги часто заканчиваются водопадом.
Через год, на маршруте по карельской реке Охте мы встре-тили туристов из
Горького (Нижнего Новгорода). От них я узнал, что четверо погибших обнаружены на
разном расстоянии от водопада, объеденные зверями и рыбами, двоих к тому
вре-мени все еще не нашли, среди них и единственную в группе девушку.
Четыре дня мы сидели на вертолетной базе в Волочанке в ожидании «борта». По
телевизору, словно бы в нашу честь, каждый вечер показывали детектив Рижской
киностудии «Мираж» с очаровательной Мирдзой Мартинсон в главной роли.
Нас обступили туземцы, предлагая за спирт красивые из-делия из оленьего меха - шапки, обувь, одежду. За бутылку мы тогда смогли бы набрать вещей на тысячи рублей. Однако денег у нас оставалось только на обратную дорогу. Но даже если бы нам и удалось наскрести на бутылку, никакой сделки с местны-ми все равно не получилось бы, так как возле магазина висело объявление: «В связи с ОДО спирт не продают» (аббревиатура ОДО означала Отстрел дикого оленя). В конце лета начинается массовая миграция оленя с севера на юг, и тут-то и ведется его массовый отстрел на мясо. Бойня обычно происходит в местах, где олени переправляются через реку. Ежегодно в дальних го-родах вербуют стрелков. Было немало случаев, когда охотники устраивали по пьянке перестрелку между собой, как некогда золотоискатели Клондайка, так что уже лет десять существует строжайший запрет на продажу спирта в это время.
Истосковавшиеся по «огненной воде» аборигены подлавливали каждого выходящего из здания аэропорта туриста и, прячась за углом, предлагали в обмен изделия из оленьего меха. Летчики гнали детей природы, причем очень грубо. «Большой брат» требовал придерживаться только им установленного порядка и обычаев, ибо только они и были самыми правильными и мудрыми.
Через несколько дней в аэропорту Норильска мы встретились с группой московских кинодокументалистов, которая отправлялась в Волочанскую тундру переснимать фильм о жизни северных народов, который они сделали в прошлом году, или снимать фильм заново. На приемке фильма комиссия с возмущением заявила, что авторы фильма, очевидно, собираются «проехать в черной телеге по Красной площади», и распорядилась фильм переснять так, чтобы все было, как полагается, - не так заметна разница между бытовыми условиями маленьких северных народов и прочим населением Сибири. Неужто же никому из этих «мудрецов» не пришло в голову, что именно отличия, оригинальность, зачастую воспринимаемые другими народами с трудом, а то и вообще не воспринимаемые, являются основой существования и развития этих народов?
Волочанка произвела на меня мрачное впечатление. Некое ассорти из аборигенов и русских. Опять вспомнились виденные кадры об обжитом севере Аляски и Скандинавии. И кажется, даже голодный, мрачный север моей юности был чище, ухоженнее и не столь бесперспективен, как север нынешней России.
Овеянные ветрами Таймыра, искусанные комарами, уставшие, но и получившие новый заряд энергии, счастливые, полные впечатлений, с красивыми камнями Путорана и вяленым на солнце и ветре лососем в рюкзаках мы возвращались в Латвию. Позади остался круговой маршрут по Таймыру протяженностью тысяча двести километров, из которых четыреста мы проделали на лодках и пешком. Закончилось путешествие, которое для меня значило очень многое. Оно заставило меня вспомнить юность и утвердиться в мысли, что я обязательно должен сюда вернуться, чтобы почтить память тех, кто остался на севере навсегда.
На берега Енисея я вернулся через пять лет с красно-бело- красным флагом. Вернулся, когда Латвия начала пробуждаться, когда начала исполняться самая горячая мечта каждого ссыльного - возрождение Латвии.
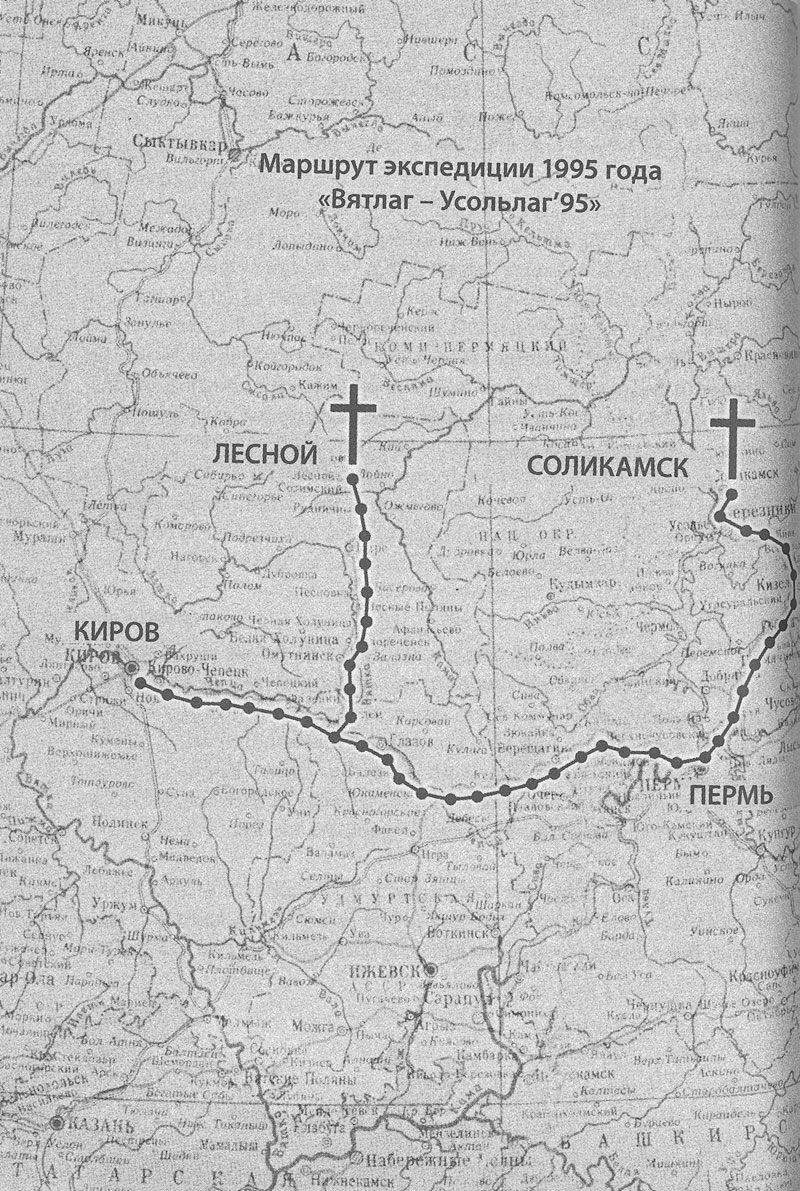
Вперед, сыны латышского народа,
Настал рассвет нашей свободы!...
(Время восторгов и надежд и мой «звездный час»)
В конце июля 1988 года, мы, четверо туристов-водников, приземлились в аэропорту Игарки. Перед нами стояли две цели. Первая (официально - главная) - водно-туристический маршрут. Не слишком сложный со спортивной точки зрения, но, учитывая малонаселенность района и северную специфику, безусловно, не без риска.
Вторая цель (по существу главная) - посетить места, с которыми были связаны мои воспоминания и судьбы многих латышей, собрать информацию о возможности во время предполагаемых будущих поездок увековечить память погибших. Решение это я принял, путешествуя по плато Путорана пять лет назад. И сейчас мы отправились в первую подобного рода экспедицию, в разведку. Шел 1988 год, когда лишь в крупных городах Советского Союза начались какие-то демократические подвижки (правда, еще при тайной и явной опеке со стороны партии и чека), а окраины империи продолжали жить в застойных временах, пребывали в глубоком сне.
Я уже тогда не сомневался, что раньше или позже будут предприняты поездки в Норильск, Воркуту, Инту, Магадан, по уже известным местам заключения, о которых писали. Давно ходили по рукам «самиздатовские» Солженицын и Шаламов. Но я считал, что вряд ли когда-нибудь пройдут по местам, куда были сосланы и где погибли тысячи - депортированные женщины и дети. О них никто не писал, да и мало кто знал об этих местах ссылки. Сейчас трудно сказать, поехал бы я туда, если бы не путешествие 1983 года на Путораны, всколыхнувшее во мне воспоминания о моей суровой юности, если бы не встреча с Леопольдом Барановскисом и последующая с ним переписка, если бы не было у меня туристского опыта. Очевидно, в жизни человека все события как-то связаны и вытекают одно из другого.
Места, по которым я собирался пройти, особой привлека-тельности для туристов не представляли - ни высоких гор, ни бурных рек, так что укомплектовать группу оказалось не просто. Но все же удалось. Это были люди, которые отправились в путешествие по принципу: «Если не я, то кто же?» Зигурд Шлице, мастер спорта по туризму, с которым я уже ходил на плато Путо- рана в 1983 году и несколько раз был в Карелии и на Карпатах, Ивар Лидака, член правления Клуба охраны окружающей среды (\VAK), тоже опытный турист, Ингвар Лейтис, кинодокументалист, активист VAK, проделавший в семидесятые годы путь от Риги до Владивостока на велосипеде. (По дороге он побывал в латышских селах Сибири и открыл их для Латвии.) Все трое были активистами групп поддержки Народного Фронта Латвии с самого его зарождения.
В начале июня я похоронил маму. Проводить ее пришли и те немногие оставшиеся в живых мои и мамины товарищи по ссылке. В это время я активно готовился к путешествию. Отношение бывших ссыльных к моей поездке было неоднозначным. Кто-то хотел бы увидеть те места еще раз, другие - хоть золотом их осыпь, ни на секунду не хотели бы вернуться. Но что тянуло туда меня? Ностальгия по Северу? Воспоминания юности? Жажда приключений, как всякого туриста? Может быть, и это. Но главное нечто такое, что не всем понятно. И чем дальше в прошлое уходят те романтические времена, тем труднее их будет понять. Ведь народ начал пробуждаться, началась Атмода. Но давайте вспомним начало! Что в те дни объединяло людей? Какая сила пробудила самосознание народа? Началось с воспоминаний о жертвах коммунистического террора. Безусловно, была и борьба против строительства Даугавпилсской ГЭС, активная деятельность Клуба защиты окружающей среды, собрания в парке Аркадияс, где зарождалось чувство единства, где пробивался первый лучик самосознания и смелости. Но главное, что пробудило, сплотило народ, была память о жертвах коммунистического террора. Трудно было найти в Латвии человека, у которого близкий или не очень близкий родственник не был бы репрессирован коммунистической властью. Только раньше это никто не афишировал. Молодежь и дети, во всяком случае, многие, узнали об этом только во время Атмоды.
В марте 1989 года американская «Таймс» писала: «Народный Фронт Латвии, под дождем слез шедший почтить память жертв Сталина, разбудил ветер Свободы. Он зовет к независимости все страны Балтии.»
14 июня 1987 года несколько убеленных сединами мужчин и женщин с цветами в руках шли к памятнику Свободы. Шли, сопровождаемые оскорблениями, словами унижения. Потом было 23 августа у памятника Свободы, когда заговорили о пакте Болотова-Риббентропа, потом 25 марта 1988 года, когда море людей - вся Рига - разлилось по Братскому кладбищу. Спонтанная, никем не организованная манифестация, но это уже была Атмода! (Читаешь воспоминания некоторых функционеров о тех днях, и возникает чувство, что об этой манифестации забыли.) А потом было 14 июня - митинг у цитадели коммунистической идеологии и у памятника Свободы. И тут уже каждому мало-мальски мыслящему человеку стало ясно, что с властью коммунистов в нашей стране покончено. Власть рушилась. И это происходило, когда все вокруг было пронизано памятью о жертвах этой власти и во имя памяти жертв. И тогда мы, четыре латыша, отправились в Сибирь, туда, где остались тысячи жертв. Мы отправились туда, вдохновленные, скорее всего, атмосферой народного пробуждения. Настало время, когда каждый обязан был что-то делать. Хоть чуть-чуть. Именно тогда мы поняли, что будущее народа тесно связано с его прошлым, с воспоминаниями о его борьбе, с памятью о принесенных им жертвах. Много ли тех, кто помнит и понимает это, будет помнить и поймет ли лет через десять-двадцать? Меняются поколения, меняются идеалы. Какие идеалы будут у следующих поколений? Кто знает! Возможно, никаких.
За тридцать пять лет Игарка очень изменилась: большая часть города еще в пятидесятые годы сгорела. От лагерей для заключенных даже намека не осталось. В северной части города выросли пятиэтажки, по образцу Норильска, но многие дома были испещрены трещинами, шедшими от фундамента До крыши. Некоторые вообще находились в аварийном состоянии. Вечная мерзлота ошибок не прощает. В городском центре, который определялся с трудом, стоял памятник Ленину, «маленький черненький», как говорил Зигис, так как во всех небольших городах и населенных пунктах России он был отлит в натуральную величину. Обычно они были или черного цвета, или выкрашены алюминиевой краской. В Игарке стоял черный.
Леопольд встретил нас нарезанным на большие куски копченым осетром и бутылкой спирта. Перед моими спутниками он поставил небольшие стаканчики, а передо мной и собой по граненому стакану. Налил себе и коллегам до краев, мой наполнил до половины, посмотрел на меня и сказал: «Поскольку теперь ты только наполовину северянин, тебе и полагается лишь половина северной доли». Это была шутка. В юности ни он, ни я выпивкой не увлекались. Нам и без этого было весело. В то время нас интересовали больше девушки, чем выпивка.
Прошлись по городу. Я нашел полуразвалившееся строение, в котором жил когда-то. Не было на доме памятной таблички, возвещавшей о том, что здесь жил когда-то враг народа - Илмар Кнагис. Этот дом был не единственным, где могла бы висеть такая табличка, но и других я не нашел. Сохранилась котельная Северного управления, в которой я когда-то работал.
Побывали мы и на литовском кладбище. Дороги к нему не было, пробирались сквозь настоящие джунгли. Кладбище впечатляло - двух-, трехметровые кресты. Большинство почти сгнили, некоторые валялись на земле. Вечная мерзлота делает свое дело. Разыгрывает всяческие «шутки». Выдавливает из земли не только кресты, но и покойников. Могильщикам не однажды приходилось рубить то руку, то ногу и вновь их хоронить.
По нашему плану, из Игарки мы должны были отправиться на Остяцкие озера, собрать катамараны, спуститься по речке Тунгусской (по которой мы с Кошелевым когда-то добрались до Енисея), затем в Плахино и Агапитово и вернуться в Игарку. Была тайная мысль добраться и до Ермаково, если удастся нанять по дешевке катер. Мы рассчитывали на самое худшее, на самое сложное, как и полагается в туристском походе по неизведанным местам. Рассчитывали только на свои силы, теплилась совсем крохотная надежда на то, что Леопольд сможет нам помочь. Однако надежда оправдалась. Помощь Леопольда оказалась даже более существенной, чем мы рассчитывали. Вместо запланированных двухсот-трехсот километров нам удалось преодолеть пятьсот.
Добытый Леопольдом катер высадил нас на правом берегу Енисея, в тридцати пяти километрах севернее Игарки. На противоположном берегу находилась давно заброшенное и разграбленное село Носовое. В бинокль видна была всего одна изба.
Там, где нас высадили, стояла когда-то избушка, одно из моих прибежищ во время охоты. Она совсем развалилась. Палатку разбили на самом берегу реки, подальше от кустарника, кишащего мошкой.
Ночью нас разбудил медвежий рев. Еще вечером мы видели медвежьи следы и недалеко в кустах западню на медведя, похожую на ту, что когда-то мы ставили с Кошелевым в Бедовом. В нее едва не угодил Ивар. И надо же такому случиться - ночью в западню попался медведь. Рев его был слышен всю ночь и затих только к утру. Жаль было зверя, но что поделаешь? Оставалось только клясть браконьеров. Накануне они приезжали проверять западню. Все пьяные. (Откуда у меня такая симпатия к медведям? Может быть, в какой-то предыдущей своей жизни я был медведем?)
Утром взвалили рюкзаки на плечи и с кличем «Вперед, сыны латышского народа!..» (так, вспоминая отца, я часто говорил, вскидывая в очередной раз рюкзак на плечи) двинулись в при-брежные джунгли искать тропу на озера. Этой тропой я не раз ходил в сороковые годы, но с каждым километром я все острее чувствовал, что значит идти по такой тропе молодым и в шестьдесят лет, тем более с палочкой. Срубил подходящую палку и взял ее в другую руку. Когда в каждой руке по палке, идти все же легче. Но все равно идти было тяжело. Ноги по щиколотку вязли во мху, путались в карликовых березках. Местами приходилось брести по болоту, увязая по колена. Тропа исчезла. Все чужое, незнакомое. Было жарко, пот тек ручьями. Над нами вились тучи комаров и мошки. Голова кружилась от запаха разогретого солнцем багульника. Мои спутники, как могли, старались облегчить мою ношу. Тогда я думал, что нынешний поход, очевидно, - моя «лебединая песня» в большом туризме. Если уж сам не в состоянии справиться со своей ношей, пора ставить на походах крест. Однако это путешествие оказалось не последним и даже не предпоследним.
Промокшие от пота, отбиваясь от мошки, мы проплутали по тайге, тундре и по берегам озер несколько дней. Когда мы снова оказались на берегу Енисея, он встретил нас ледяным северным ветром. Плыли на двух катамаранах. Большую проблему создавал встречный ветер. На веслах двигаться вперед было невозможно. Одному из каждого экипажа приходилось идти по берегу и тащить катамаран на веревке, второй сидел на катамаране и правил. Громадные волны не однажды выбрасывали катамараны на берег, руки были в мозолях.
Один привал мы сделали в устье Филькиной речки, напротив острова, где в 1947
году мы с Семеном и Андрияном ловили дикую кобылицу. Примерно в километре должна
была стоять изба, которую мы тогда срубили. Но сил дойти до нее у меня не было.
Надеялся сделать это на обратном пути. Но никогда ничего нельзя откладывать на
потом, если есть хоть малейшая возможность - делай сразу же. Это из опыта
туристской жизни.
Попытались подняться вверх по Филькиной речке, но через несколько километров от
замысла пришлось отказаться - речка оказалась слишком мелкой.
На следующий день добрались до Сопочки. Ни от изб, ни от моего прежнего жилья,
ни от тропы, которая вела в гору, не осталось и следа. Подножье крутого склона
потонуло в густых зарослях, тянувшихся на несколько сотен метров. С огромным
трудом выбрались наверх. На горе ни следа не осталось от сто-явшего здесь
когда-то дома. Что с ним случилось? Сожгли, как сожгли почти все рыбацкие и
охотничьи избушки на северных берегах Енисея? Почти на протяжении всех пятисот
километров, которые наша экспедиция прошла по берегам Енисея, от когда-то
обжитых мест остались только развалины. Все было порушено, сожжено.
Странное, не поддающееся описанию чувство охватило меня, стоявшего спустя долгие
годы на том самом месте, где закончилось мое детство и началась юность. С берега
Сопочки я смотрел тогда на бушующий Енисей и любовался удивительным северным
сиянием. Казалось невероятным, что я здесь жил почти полвека назад.
Возможно, кто-то мне возразит или, в крайнем случае, подумает - ну что особенного в том, что человек вернулся в места, где прошли его детство и юность? Но один возвращается, скажем, из Риги в Лиепаю, Екабпилс, в Валмиеру или в деревню, но совсем другое вернуться на другой конец света, в другой мир, с которым связаны почти немыслимые переживания - ужас, отчаяние, безнадежность, униженность. Но не только горькие воспоминания, ведь было детство, была юность. Вероятно, понять эти чувства сможет лишь тот, кто и сам испытал состояние, которое можно обозначить одним словом - чужбина. И не дай Бог нашему народу пережить подобное еще раз!
Из леса выбежал пес, очень похожий на старого моего спутника Пирата. Вел он себя так, словно мы давно знакомы. Он спустился с нами с обрыва и долго провожал нас вдоль берега.
Но вот наконец песчаный берег Косы, следы какой-то избушки и Плахино - жалкие
остатки нескольких домов, в основном, развалины, недогоревшие бревна. От хлева,
который я строил когда-то, не осталось и развалин. Обошел места, где, по моим
воспоминаниям, должно было находиться кладбище, но не нашел никаких примет.
Трава по грудь, кочки, ямы, комары, мошка, жара, страшная боль в спине и в ноге.
Махнул на все рукой, и мы вернулись на берег, где нас снова встретил ледяной
ветер. Разбили палатки, поели, стали рассуждать - хоть и не наши кладбища, а
памятный знак поставить здесь надо. Я был в «ауте»: подняться в гору не было
сил. Ингвар и Ивар еще раз поднялись в разрушенное село и на том месте, где, по
моим предположениям, должно было быть кладбище, установили белый березовый
крест, какой ставили легионерам. Это был первый памятный знак, установленный во
время третьей Ат- моды погибшим в Сибири жителям Латвии.
На следующее утро переправились на правый берег, в Агапитово. Пес остался на
берегу и долго еще провожал нас печальным, умным взглядом. Как оказался он на
безлюдном берегу? Может быть, еще с тех времен?
От Агапитово не осталось ничего. Только ямы от землянок и головешки. На самой вершине горы стояла небольшая изба, похоже, поставленная не так давно. Возле избы видны были следы недавнего пребывания здесь человека: воткнутая в землю коса. Но о наличии домашнего скота не говорило здесь ничего.
Прошли по лесу, где когда-то хоронили умерших. С трудом отыскали следы нескольких могилок, почти сровнявшихся с землей. Нашли только один полусгнивший крест, повисший на ветвях ольхи. Дождь лил не переставая. На душе было мрачно. Вырезали несколько крестов в стволах берез. Прикрепили к ним металлические значки - «аусеклитисы» и красно-бело-красные вымпелы. Высыпали горстку родной земли, которую дала нам с собой выжившая после Агапитово Неллия Рабкина-Закис.
На следующий день из-за мыса показался катер. Издалека видна была белая развевающаяся борода Леопольда. Пока мы собирали палатки и укладывали вещи, Леопольд поднялся на гору. Здесь он пережил самую ужасную зиму в своей жизни. Здесь вместе со всеми был похоронен его маленький братишка.
Позади осталось место под названием Агапитово. Голое пространство на берегу Енисея. Ничто больше не свидетельствовало о том, что сорок пять лет назад здесь разыгралась трагедия. Долго еще над поросшими лесом берегами виднелась голая плоская вершина. И тут мне пришла в голову мысль, что именно здесь должен стоять большой крест. Знак, который заметят проходящие мимо суда. И каждое судно должно в этом месте сигналить, а гиды - рассказывать о событиях прошлого. С тех пор мысль эта не давала мне больше покоя.
Ветер задул с юга, и трудно было даже представить, как бы нам самим пришлось идти на веслах до Игарки, как предполагалось вначале. Даже катер волны швыряли как щепку. Позади остались Плахино, Коса, Сопочка и поставленная мною изба на Филькином острове, которую я намеревался посетить на обратном пути, но в шторм замысел был неосуществим. Не все, что было намечено, мы успели делать. Не добрались до Щучьего и Тунгуски, зато сделали то, что и не предполагали сделать. Мы попали не только в Ермаково, но и в один из многочисленных лагерей Трансполярной железнодорожной магистрали - «Мертвой дороги».
На почтовом катере, с капитаном которого договорился Леопольд, мы направились на юг. Мимо проплывали пустынные берега. И к югу от Игарки все было порушено, даже большое село Карасино.
Рано утром высадились на набережной в Ермаково. Мертвый город Ермаково... Город, в котором в те далекие времена было пятнадцать тысяч жителей, стоял заброшенный, пустой, никому не нужный. Город-кладбище. Мы бродили среди домов с пустыми глазницами окон и дверных проемов, по улицам, где трава была нам по грудь. Как в таинственной «зоне» братьев Стругацких. А когда-то здесь бурлила жизнь. Ведь велось строительство одной из грандиозных, если не самой грандиозной стройки коммунизма - Великой Трансполярной железнодорожной магистрали. А сейчас полуразрушенные дома, заросли кустарника и трава в рост человека. Позже, когда я уже работал в геологических экспедициях, нам не раз приходилось бросать на волю судьбы построенные своими руками поселки. Но там было всего десять-пятнадцать домов. А здесь целый город - сотни домов, мастерские, склады, магазины, клубы, театр и пр.
Отправились искать лагерь, расположенный когда-то в восьми-десяти километрах от Ермаково. По железнодорожной насыпи добрались до паровозного депо, которое довольно хорошо сохранилось. Рядом развалившаяся баня. Еще дальше огромная круглая металлическая емкость с дверцами в боку. В емкости металлические крючки в несколько рядов. Мои спутники стали гадать, что это за сооружение. Я, как человек в этой области более образованный, догадался, что это «прожарка» - агрегат для уничтожения вшей. На крючки вешали одежду, емкость наполняли горячим паром, и вши сыпались на землю, как горох.
Недалеко от депо стоял паровоз, заросший кустами, про-валившийся в землю по самые оси, за ним несколько товарных вагонов. Сохранилось метров сто рельсовой колеи. Из земли местами проступала гнилая «лежнёвка» - остатки автодороги, выложенной из толстых досок. Ходить по ней было опасно, так как в желтом порошке, в который превратились доски, прятались большие гвозди. На такой гвоздь и напоролся Ингвар. Гвоздь проколол подошву его видавших виды кед и счастливо скользнул между пальцев.
От насыпи почти ничего не осталось. Трудно было даже представить, что когда-то здесь ходили поезда.
И вдруг за поворотом показался лагерь. Высокие башни, которые вначале мы приняли за сторожевые вышки, оказались вентиляционными трубами какого-то огромного завода. Лишь потом мы поняли, что огромное здание - бывшая электростанция. В кустах валялась труба длиной метров в двадцать. Но электростанция была лишь частью стройки. Был еще завод, кажется кирпичный.
От забора из колючей проволоки, который когда-то опоясывал лагерь, остались лишь торчащие кое-где столбы с остатками ржавой проволоки. Сохранилось и несколько смотровых вышек. Мы пробирались сквозь настоящие джунгли. Как когда-то города и культуру майя и инков поглотили джунгли, так и тут сталинскую «культуру» поглотили сибирские джунгли.
Большинство бараков довольно хорошо сохранилось. Штукатурка внутри и снаружи. В центре каждого помещения кирпичная печь. Двухэтажные нары. Каждый барак рассчитан примерно сто двадцать мест. Насчитали бараков двадцать. Кусты совершенно непроходимые, трава такая высокая, что следующий барак появлялся неожиданно, вырастал буквально в нескольких метрах от нас. Действительно джунгли. Посреди лагеря еще один забор и большие, украшенные деревянными резными «завитушками» ворота. Зона в зоне. Здесь большой клуб с кинозалом. Рядом кухня. В огромную плиту вмурованы шесть чугунных котлов метрового диаметра.
Видно, что лагерь строили так, чтобы он мог служить десятки лет. Чуть подправить, и можно принимать новых обитателей.
Площадка перед клубом покрыта толстыми, тоже уже совершенно трухлявыми досками, как и автодорога. Тут же Доска почета, тоже хорошо сохранилась. (Вот пишу я эти строки и думаю - ведь выросло поколение, которое вообще не знает, что такое Доска почета. Не знает, что такое - социалистическое соревнование. И, похоже, многое в моем рассказе из жизни в советские времена будущим поколениям будет непонятно и даже покажется выдумкой. Так же, как мне в детстве казались бессмысленными перепечатанные в журнале «Айзсаргс» иллюстрированные анекдоты из советского журнала «Крокодил».)
Пробираемся дальше сквозь кустарник, березняк и цветы. Все вокруг утопает в красных, желтых, фиолетовых цветах. В каком-то бараке нашли клочки газеты Латвийской ССР «Циня» за 1953 год. На одной стороне портрет Сталина, на другой извещение о его смерти.
Ярко светит солнце. Мы лежим в траве возле барака. Вокруг цветы. Над нами, закрепленный на углу барака, развевается красно-бело-красный флаг. Дошедшая до нас из глубины времен весть о смерти Сталина и красно-бело-красный флаг над сталинским лагерем смерти - символическое завершение нашего путешествия.
Вечером следующего дня мы уже летим в Латвию. В иллю-минаторе мелькнули и исчезли огни Игарки. Наше путешествие завершилось. Это была первая поездка по местам заключения и ссылки латышей. Первые памятные знаки, первый крест, установленный в заброшенном и порушенном селе Плахино, в двухстах километрах севернее Полярного круга. Впервые в истории красно-бело-красный флаг развевался на берегах Енисея.
Под нами была тайга, тундра и болота, и мертвая дорога, последняя сталинская стройка. Последний «Сизифов камень» социализма. Дорога в никуда.
Мы летели в Латвию. Пробудившуюся от социалистического бреда, хотя, скорее, в
только начинавшую пробуждаться Латвию.
В Латвии, и не только в Латвии, во всей Российской империи происходило много
интересного. Каждый день приносил что-то новое. Все интереснее становились
газеты и журналы, и жизнь становилась интересной, многообещающей. Собрания,
митинги, пикеты, манифестации, зелено-бело-зеленые и даже красно-бело-красные
флаги.
Москва пыталась спасти что можно. Пока добром. Кремль засылал своих «визирей» - сначала умного и интеллигентного Александра Яковлева, потом самого главного остолопа - Вадима Медведева, потом какого-то «интеллигента» Денисова из так называемой «группы интеллигенции» ВС, в котором, кроме седой козлиной бородки, никаких признаков интеллигентности не наблюдалось. Но уже не помогали ни мягкие уговоры, ни демагогия, ни угрозы. Вылетевшую птицу Свободы обратно в клетку засадить было невозможно.
Возникали группы поддержки НФЛ. Один из моих компаньонов по туризму - Алдис Бергманис организовал группу поддержки в туристском клубе «Гайта» на заводе «Латвияс берзс» и вовлек в нее меня. Состоялся грандиозный митинг в Межапарке, потом был создан Народный Фронт Латвии.10 ноября политически репрессированные Риги объединились в Клуб политически репрессированных. Как это происходило?
Вскоре после нашего возвращения Зигис встретился с Игорем Носковым и рассказал ему о нашей поездке. Носков тоже занимался водным туризмом и в Доме культуры работников просвещения, по улице Юра Алунана, 7, где он работал методистом, организовал туристский клуб «Роза ветров». На одно из собраний этого клуба Носков пригласил и нас с Зигисом - показать диапозитивы и рассказать о поездке.
В зале было много репрессированных, даже из других городов. Были сердечные рукопожатия и даже слезы. Я был счастлив: кое-что все же удалось сделать. Потом возникла мысль об объединении. Прецедент был - в Москве еще в 1987 году было создано общество бывших политзаключенных «Мемориал». Поговорили с Носковым. Оказалось, и он, и его отец тоже были репрессированы.
10 ноября на улице Юра Алунана состоялось организационное собрание первого общества политически репрессированных - Рижского клуба политически репрессированных. Зал полон, народ толпится в коридоре и на лестнице. Правление избрали из добровольцев. В тот вечер встретились многие, не видевшиеся годами, некоторые еще со времен сибирской ссылки. Люди в зале окликали друг друга, обнимались, целовались.
Все разделились на группы. Кто из Красноярска, кто из Томска, с Амура, из Воркуты, Инты. «Призыва» 1941-го, 1945-го, 1949 годов. Люди разворачивали географические карты. Разговоры, воспоминания, вздохи, смех, слезы. Это было начало. Начало искреннее и многообещающее.
Той же осенью возникли клубы в Огре, Елгаве, Валмиере, Це- сисе. Почему клубы, а не общества? Чтобы усыпить бдительность чека. В то время, когда, пошучивали - «более трех не собираться», слово «клуб» звучало не столь серьезно и антигосударственно, как «общество». Было создано также Рижское отделение Всесоюзного общества «Мемориал», которое объединило в основном людей, говоривших по-русски.
Я с головой бросился в работу, отдавал ей душу и сердце. Наконец я нашел общественную работу, в которой видел смысл. В то время она имела и большой политический смысл. Основная нагрузка легла на Игоря Носкова. Если бы в самом начале его не было, неизвестно, чем бы все закончилось. Он был душой клуба. Он обладал организаторским талантом и опытом, был настоящим интеллигентом, а в восьмидесятые годы это было редкостью. Игорь умел разговаривать людьми, умел их слушать, что зачастую было совсем не просто, но в то время, по-моему, было самым главным. Важно еще, что в распоряжении Игоря был зал, который очень скоро оказался мал, и для общих собраний свой зал предоставляла 49-я средняя школа. Бывшие репрессированные в клуб на улице Юра Алунана приходили каждый день. Приходили за помощью. Не за материальной. Это тогда и в голову никому не приходило. Нужно было помочь написать документ, заявление, люди искали родственников, друзей, но в основном приходили рассказать о том, что почти полвека хранили в душе. Люди приносили свои воспоминания, фотографии, документы, письма. Хоть и моя биография была достаточно богатой и пестрой, но из разговоров с другими я узнал много нового. Встретил людей, с которыми не виделся со времен первой ссылки. Странно было в старых дамах узнавать когда-то юных девушек. Неужто и я так постарел?..
В те годы я многому научился у Игоря. Единственное, в чем наши мнения не совпадали, было отношение к латышским стрелкам. В советское время в обществе укоренилось понятие «красные латышские стрелки». Был музей красных латышских стрелков, памятник Латышским красным стрелкам и пр. Слово «стрелки» у большей части общества ассоциировалось с охраной Ленина и многими другими непопулярными в Латвии делами, а с началом Атмоды непопулярность только возросла. Историки не считали нужным верно освещать роль старых латышских стрелков. И отношение к латышским стрелкам многих лояльных к нам и к идее нашей независимости русских было отрицательным. Стрелки ведь били белых, хороших генералов и, кажется, даже участвовали в убийстве «царя-батюшки». Не только в России, но и в Латвии кое-кто во всех своих несчастьях готов был винить стрелков.
Работа с людьми и до этого была мне не чужда, но в основном с молодыми людьми, без комплексов. Но тут я столкнулся с людьми почтенного возраста, очень разными и много страдавшими. И относились к своему прошлому они по-разному. Зачастую это не зависело от степени тяжести пережитого. Одно и то же люди вспоминали по-разному. Кто-то со слезами на глазах, кто-то со смехом, а кто-то и с ненавистью, со злобой, которую десятки лет хранил в душе. К сожалению, невольно приходила на ум старая китайская пословица о том, что гнев и ненависть доводят человека до шизофрении. И с этим, к сожалению, тоже пришлось столкнуться. Были и такие, в чьем сердце ненависти не было (в сердце у них вообще ничего не было), просто с языка срывались полные злобы слова, служившие рекламой. Чаще всего ненависть выражали те, кто меньше всех пострадал. Слушая пламенные речи времен Атмоды, я часто вспоминал айзсарга, который на митинге в 1940 году топтал ногами форменную фуражку.
Еще не раз мы с Зигисом показывали слайды и рассказывали о нашей поездке в различных кружках и клубах, которые был организованы в рамках Общества работников просвещения. Ингвар смонтировал фильм «\Л/Ы1:е СНпзгтаз 2000», который рассказывал о нашей поездке и о событиях у памятника Свободы в 1987 и в 1988 годах. Однако трудно, даже невозможно было показать этот фильм на большом экране. Только фильмы Зигурда Видиньша полулегально люди смотрели в подвале «Кошкиного дома».
Первые годы Атмоды были насыщены событиями. Хронологию их сейчас трудно восстановить. Состоялось несколько выставок, рассказывающих о репрессиях. На всех экспонировались фотографии, привезенные из нашей поездки. Первую выставку организовала, кажется, Эдите Сондовича в Музее стрелков. Потом была выставка, организованная Гайдой Яблов- ской в Музее Розенталя и Блауманиса, затем организованная Иевой Квале выставка в Музее истории, затем слет высланных детей, на котором я встретил многих товарищей по судьбе, которых давно не видел. Большую, исчерпывающую выставку организовали руководители «Мемориала» - Галина Матиса- Петрова, Лев Домбурс и его жена Рута Озола.
Я сел за свои воспоминания. Кое-что набросал еще после поездки 1983 года по плато Путорана, но не было ни времени, ни особого желания всерьез браться за работу, так как никаких надежд на публикацию не было. Я не поэт и не писатель, из кого «вирши» извергаются сами собой. Зато дочка, которая уже выросла и «переварила» мое прошлое, стала теребить меня, заставляла писать, считала, что я обязательно должен записать свои воспоминания. Я от дочери никогда ничего не скрывал. Когда однажды в школе подружки выразили удивление по поводу того, что она родилась в Сибири, Инга показала им руки, на которых словно бы остались следы от каторжных оков...
Ни в стол, ни в «землю» я, скорее всего, писать бы не стал, но появилась надежда кое-что напечатать. Однако самое главное заключалось в том, что после последней поездки из меня действительно стало «изливаться» когда-то пережитое, и на волне эмоций, вызванных воспоминаниями, я просидел за письменным столом всю зиму и к весне 1989 года закончил свое повествование. (Вспоминать сегодня историю с рукописью и писать о ней я не считаю необходимым.)
Одной из идей Игоря Носкова была организация собственного издательства политически репрессированных. Материала уже в самом начале нашей деятельности было достаточно. К тому же Игорь полагал, что издавать надо все, без особых правок и корректуры, главное - содержание. Главное - дать как можно больше информации о том, что происходило с людьми в Сибири, об их дальнейшей судьбе. И, по возможности, на русском и английском языках.
В феврале 1989 года Клуб политически репрессированных был создан и в Екабпилсе. Я поехал в свой родной город. Встретил кое-кого из тех, с кем вместе был выслан. Осталось нас совсем мало. В основном сосланные в 1949 году. Впервые над городом развевался красно-бело-красный флаг. Он был виден издалека, когда переезжали через Даугаву.
14 июня 1989 года Екабпилсский исторический музей пригласил меня рассказать о поездке и о себе, показать слайды. С большой радостью ехал я в свой родной город. Вспомнилось детство, вспомнилось, как Херберт Цукурс показывал в Екаб- пилском доме айзсаргов «туманные картинки» (так в то время назывались слайды) и рассказывал о своих путешествиях в Гамбию и Индокитай. Моя аудитория была не такой многочисленной. В основном собрались репрессированные.
Уже было издано распоряжение правительства вывесить флаги с траурными лентами, правда, пока флаги ЛССР, так как красно-бело-красный официально еще не получил статуса государственного. Я был приятно удивлен, когда увидел на своем Доме развевающееся красно-бело-красное полотнище. Вначале подумал, что Латвийский флаг, вероятно, висит на каждом доме, откуда были депортированы люди, но оказалось - на автовокзале, который находился в моем доме, была сильная группа поддержки Народного фронта, она и вывесила флаг Латвии вместо флага Латвийской ССР.
Решил осмотреть свой дом. Давно здесь не был, но на сей раз я переступил порог с хозяйским чувством. Что-то я уже в то время предполагал. Автостанция проводила в доме центральное отопление. Во внутренних стенах зияли большие дыры. Когда на вопрос сотрудников, кого я ищу, я объяснил, что зашел посмотреть дом, построенный моим дедом, они засмеялись и сказали, что дом такой прочный, что пришлось применить динамит, чтобы пробить стены. Вскоре я подал запрос на возвращение дома. И получил отказ. «Первый блин комом». Шел только 1989 год.
Политическая жизнь бурлила. Клуб охраны окружающей среды, Народный фронт, Интерфронт, ДННЛ (Движение за национальную независимость Латвии), Гражданские комитеты, Балтийская ассамблея. Манифестации на Домской площади и на набережной Даугавы. Но и первые признаки раскола. Разногласия между НФЛ и ДННЛ. Появилась альтернатива - неформальный НФ. Никак не могли поделить кроху Свободы, только что дарованную Богом. Слишком много было тех, у кого чесались руки руководить чем-нибудь, быть начальником, но всем мест не хватало, надо было придумывать новые.
А я с легким сердцем, довольный, что снова удалось вырваться из пут цивилизации, отправился в автономную республику Коми, в северный город Инту.
Туристы, которых далекий север манит своими белыми ночами, суровой, загадочной и щемящей природой, с огорчением и даже с возмущением восприняли запрет, наложенный в восьмидесятые годы на туристские походы по северным районам, в том числе по Полярному Уралу. Чтобы попасть туда, надо было преодолеть немыслимые бюрократические барьеры. Поэтому с двойной радостью я принял приглашение старинного друга и товарища по турпоходам, руководителя Интинской геологической партии Володи Подгурского отправиться в путешествие по какой-нибудь из рек Полярного Урала. Мы остановились на реке Лемва, которая начинается в Уральских горах и, прокладывая себе путь на север вдоль хребта, впадает в реку Усу недалеко от поселка Абезь. Получили разрешение и лицензию налов рыбы.
Полярный Урал, город Инта и его окрестности давно занимали мое воображение еще и потому, что это было одно из мест заключения латышей. Я уже знал о памятнике на кладбище Инты, созданном бывшим каторжником Инты Эдуардом Сидрабсом в 1956 году, знал также, что памятник упал.
Я стал как бы связующим звеном между живущим в Инте Петерисом Даукште, взявшимся за восстановление памятника, и группой, с этой же целью собиравшейся приехать сюда из Риги. Много лет назад памятник то ли опрокинулся, то ли его опрокинули. Все таблички на братском кладбище были разбиты вдребезги. (Лишь одну из них мне удалось собрать по кусочкам. Насколько мне помнится, там стояла фамилия Пунцулис.) Подножье лежащего памятника было усыпано бутылочными осколками. Сам памятник представлял собой массивную бетонную глыбу с барельефом женщины в латышском национальном костюме. Сильно поврежденный барельеф еле держался на бетоне, повреждено было и лицо женщины. С основания памятника исчезло сделанное из медного прута слово «Родине». Кладбище заросло кустарником и деревьями. Было много общих захоронений, по пятнадцать, двадцать человек, где стояла одна дата смерти. Это были шахтеры, погибшие в результате несчастного случая. Выработки в Инте лежали на большой глубине, а шахтерский контингент состоял в основном из заключенных, то есть людей не очень ценных, так что о технике безопасности никто особенно не думал.
На месте кладбища предполагалось возведение жилых зданий, как это происходило в других местах захоронения заключенных. Об одном из новых районов Инты на берегу реки рассказывали, что бульдозер, выравнивая строительную площадку, вместе с верхним слоем земли сталкивал в реку и горы человеческих останков. И теперь жителям этих домов являются привидения. Что-то подобное, как рассказывали, происходило и в других городах, выстроенных на арестантских костях. А таких на необъятных просторах советской империи множество.
Работы по восстановлению памятника начались в начале июля по инициативе жившего в Инте бывшего заключенного, а затем дважды высланного Петериса Даукште. В середине июля бетонную глыбу весом в десятки тонн подняли домкратами, рычагами и тросами. Подъемному крану здесь было не развернуться. Поднимали памятник геологи Подгурского и участники моей туристской группы, которые прибыли в Инту на несколько дней раньше. Когда я приехал, памятник уже стоял и был укреплен.
Ничто уже не говорило о том, что город построен на месте бывших лагерей. Не сохранилось ни одного лагеря. Зато в облике города заметно было влияние прибалтов. В свое время главным архитектором Инты был отбывший срок латыш Витолд Карклиньш. Здания украшали орнаменты, выполненные художником Вернером Кайсонсом. Уличные насаждения были разбиты по инициативе латышей и литовцев и их стараниями. Наиболее заметный городской объект - водонапорную башню, силуэтом напоминающую башню Московского Кремля, проектировал каторжник из Инты латыш Адольф Пунтулис.
Пробыв в Инте несколько дней, мы отправились дальше. Вначале по каменистой долине реки Инты, затем по голой тундре. Под рев мотора и лязг гусениц вездеход геологов мчал нас по камням русла реки и каменистым берегам на восток, на западные склоны Полярного Урала, к таинственному истоку реки Лемва. Пересекли несколько глубоких речных долин с такими отвесными берегами, что казалось - машина вот-вот перевернется. Часть пути ехали по великолепному шоссе, проложенному известным золотоискателем Тумановым, одним из первых российских частных предпринимателей, над которым много лет глумилось государство.
Путешествие по реке Лемва начали в абсолютном неведении, где находимся и действительно ли это нужная нам река. Водитель вездехода и сам толком не знал, где нас высадил. Ясность в этом вопросе наступила только через несколько дней.
Река несла нас как щепку. Течение было мощное. И хотя пороги встречались не очень серьезные, прижимало нас к берегу на поворотах основательно. Вокруг красота необыкновенная. Скалы поднимаются на несколько сот метров. Места безлюдные. Прибрежный песок испещрен следами оленей и медведей. В первый же день Лемва щедро одарила нас огромными хариусами, каких на Таймыре мы не видывали, а речные берега - крепкими боровиками, красной смородиной и редко встречающейся в Латвии жимолостью. Все эти дары природы мы поглощали в огромных количествах.
Одной из целей моего путешествия было обследование бывших мест заключения по берегам Лемвы. В Инте мне не удалось получить никакой информации, но за несколько километров до впадения в Лемму Харуты мы нашли развалившуюся избу и остатки нескольких похожих на бараки строений. Валявшаяся кое-где колючая проволока превратилась в ржавый порошок. Понятно было, что лагерь очень старый. Возможно, тридцатых или даже двадцатых годов, зачатки будущего ГУЛАГа. Вернувшись в Инту, мы узнали, что еще выше, недалеко от устья Грубей, сохранились остатки лагерей двадцатых годов. Туда были свезены монахи и монашки из многих российских монастырей. Рассказывали, что когда монашки отказались расстаться со своей монашеской одеждой, с них ее сорвали и голышом за волосы тащили по снегу.
В нижнем течении реки, в единственном на берегах Лемвы обитаемом местечке Эпа, старый коми рассказывал нам, что ки-лометрах в десяти вниз по течению был когда-то большой лагерь. Мы его нашли, но от лагеря осталось только одно строение, в ко-тором якобы жил начальник лагеря, и полуразвалившаяся банька с двумя громадными чугунными котлами «Made in England». Рядом с банькой зияла огромная, метров десять глубиной яма. С удивлением мы узнали от местных колхозников, что это был отстойник для очистки вытекающей из бани воды. Я уверен, что в наши дни мысль об очистке сточных вод в таком диком, почти безлюдном месте никому бы и в голову не пришла, сточные воды спускали бы прямо в реку. Кстати, вода в Лемве была кристально- чистой и вкусной. Только один приток нес воду белую, как молоко. В его верхнем течении, где-то на Урале промывали, очевидно, золото или еще что-то. Мы с Володей твердо решили в будущем году подняться по одному из притоков Лемвы до Урала, пересечь его и по одной из рек восточных склонов хребта спуститься до Оби, по ней до Салехарда, где находился западный конец «Мертвой дороги». Нашей «голубой мечте» не суждено было осуществиться. Мой друг через год умер, а меня ждали другие, возможно, с точки зрения туризма, не столь привлекательные, но, на мой взгляд, более важные путешествия.
Лемва впадает в Усу, и через несколько километров мы достигли цели своего
маршрута - поселка Абезь. Когда-то сюда отправляли больных и самых слабых
арестантов «дозревать». Это была последняя точка, откуда редко кто возвращался.
В тридцатые годы здесь был расположен знаменитый женский лагерь АЛЖИР (Абезские
Лагеря Жен Изменников Родины). Когда незадолго до поездки я рассказал актеру
Миервалдису Озолиньшу, что буду в Абезе, где, как я знал, он лежал в больнице,
и попросил его рассказать что-нибудь об этих местах, он ответил, что о том
кошмаре он не в состоянии не только говорить, но даже думать.
Лагеря в Абезе больше не было, но около станции сохранилось несколько бараков.
Жили в них обычные люди. Там же, за станцией, в тундре, хоронили заключенных. Но
обнаружить захоронения было почти невозможно. Подумалось, что пройдет еще
несколько десятилетий, и ничто больше не будет напоминать, что когда-то здесь
было захоронены тысячи и тысячи. Но даже если в таких обжитых местах на трассе,
как Абезь, Инта и Воркута, что-то и останется, кто будет присматривать за
безымянными могилами вдоль всей трассы?
Поезд вез нас обратно в Инту по знаменитой железной дороге Котлас - Воркута, возведенной на костях каторжников, как и все великие стройки социализма. Мимо окон вагона скользили станционные склады. На стене во всю ее длину большими буквами читалась надпись, возможно, такая же старая, как сама железная дорога: «Дело Ленина живет и побеждает!»
За время нашего отсутствия в Инту из Риги приехал бывший заключенный Алфред Гейданс со своей группой - Имантом Гейдансом, Зиедонисом Калныньшем и моим товарищем по предыдущей поездке Ингваром Лейтисом, у которого была видеокамера. Петерис Даукште и группа Гейданса проделали колоссальную работу. Был восстановлен не только сам памятник, но и братское кладбище вокруг него. Только на отлитых из бетона могильных плитах не было никаких надписей. Истины ради надо сказать, что вряд ли они сумели бы все это сделать, если бы не помощь городских властей и партийных организаций. Время было такое, что никто, даже партийные бонзы, не знал, что будет, что ждет их самих и партию. В воздухе чувствовался «запах гари». Так что на всякий случай стоило сделать что-то, приличествующее новым временам. Тем более потому, что о памятнике остались лишь смутные воспоминания, мало кто знал, кому он поставлен. Но хочется верить, что не все помогали только из корыстных целей. В России и в самые мрачные времена были и «светлые» люди. И, надеюсь, их будет все больше. А в Латвии? Побывал в Интинском краеведческом музее. В отличие от увиденного (скорее, не увиденного) в музее Норильска здесь уже ощущались новые веяния. Без оговорок рассказывали о прошлом Инты, о лагерях, о судьбе заключенных.
Открытие памятника состоялось 20 августа. Но я должен был быть в Риге и вылетел из Инты за несколько дней о его открытия.
В этой связи я вспомнил другое 20 число этого же года - 20 июня 1989 года, когда на Рижском Лесном кладбище открывали памятный камень автору интинского памятника Эдуарду Сидрабсу. Я стоял у его могилы и думал о том, что в то время, когда только что выпущенный из лагеря скульптор создавал памятник в далекой Инте, в Латвии уничтожали десятки других памятников. Я думал о том, что в то время, когда Эдуард Сидрабс воплощал свою идею в жизнь, что было расценено как преступление, за которое он уже в старости чуть вновь не оказался на каторге, в Латвии многие его коллеги ваяли образы чуждых своему народу «кумиров», удостаи-ваясь за это признания властей и позволения вкусить от «сладкого пирога». В Латвии никто и пальцем не шевельнул, чтобы спасти обреченные на уничтожение памятники (пожалуй, русский скуль-птор Мухина была единственная), а в далекой Инте уничтожить нелегально воздвигнутый памятник не дали заключенные, вы-двинувшие ультиматум с угрозой взорвать одну из угольных шахт. Всех, кто участвовал в создании памятника, долго допрашивали с целью приписать им антигосударственную деятельность. Эдуарда Сидрабса шантажировали и после его возвращения в Латвию, и это, возможно, ускорило его уход от нас.
На Лесном кладбище возле могилы Сидрабса стояли только его товарищи по каторге и другие неофициальные лица. Ни один художник не нашел нужным принять участие в торжественном событии. Следует сказать, что установление памятного камня это, прежде всего заслуга жены известного фотомастера Яниса Глейздса Анны. Уже после смерти Сидрабса она случайно по-знакомилась с его вдовой, узнала о судьбе скульптора и о па-мятнике в Инте. По инициативе Анны Гпейзды памятный камень был создан и установлен группой Народного Фронта фирмы «Граните». Этим я хочу лишний раз напомнить, что многое тогда, в первые годы Атмоды, происходило спонтанно, по инициативе отдельных энтузиастов, которые не думали о вознаграждении, не думали - «а что мне за это будет».
18 ноября 1999 года Эдуарду Сидрабсу исполнилось бы 100 лет.
Я не художник и не берусь оценивать художественные достоинства памятника в Инте, но ясно одно - в мире больше нет ни одного памятника, который создавался бы в таких условиях. Памятник в Инте - уникален.
И, безусловно, в своем роде уникальны и те «художественные» произведения, которые были показаны в 1988 году в выставочном зале «Арсенал». Созданы они были примерно в то же время. Представлены были и интереснейшие документы - протоколы заседаний Союза художников с очернительными, «разоблачительными» выступлениями в адрес таких художников, как Паулюкс, и других, не сумевших или не захотевших вовремя приспособиться к новым временам, к «социалистическому реализму», или вообще не способных на это. Выставка, без со-мнений, у каждого здравомыслящего человека вызывала и смех, и возмущение. Возмущение и стыд за насилие над искусством и смех, который могут вызвать проделки придворного шута. Я испытывал чувство стыда. Как латыш. А что испытывали порядочные и уважаемые в обществе люди, когда узнавали о глупостях, трусости и непорядочности своих отцов? Снова и снова не дает мне покоя мысль - когда же наконец люди задумаются над тем, как каждый их шаг аукнется в жизни их детей и внуков?
Конец 1989 года тоже был щедр на события. Самым важным из них был организованный НФЛ 23 августа «Балтийский путь» - человеческая цепочка от Таллинна до Вильнюса. Это было нечто уникальное, событие, которое, возможно, никогда не будет оценено до самых глубин. Ничего подобного никогда и нигде в истории человечества не происходило.
14 октября в Огре состоялась объединительная конференция всех латвийских клубов политически репрессированных. Было создано Латвийское объединение политически репрессированных - 1.РВА. Главным инициатором объединения, душой и сердцем происходящего был Игорь Носков. К сожалению, он не был избран председателем объединения. И это, на мой взгляд, было большой ошибкой.
Еще летом родилась мысль о сотрудничестве политически репрессированных всех трех стран Балтии, об обмене инфор-мацией, и 16 и 17 декабря в Риге прошел объединительный конгресс Ассоциации политически репрессированных стран Балтии. Во время подготовки к конгрессу состоялось несколько встреч с политически репрессированными литовцами и эстонцами, так сказать, «обмен опытом». Обсуждали ошибки предшествующих поколений, политиков, государственных деятелей, неспособность объединиться в борьбе с общим врагом. Конгресс завершился, и на этом по существу завершились и наши контакты с литовской и эстонской организациями.
Мы были так заняты тем, что происходило у нас, что события в других городах Советского Союза и Восточной Европы, даже падение Берлинской стены и объединение Германии, казались нам «мелочью». Латвия была для нас «пуп земли». История «творилась» у нас.
Начало 1990 года было таким же бурным. Самым важным событием стали выборы в Верховный Совет Латвии (тогда еще ЛССР). Это уже была настоящая политическая борьба. Один из наиболее характерных эпизодов тех лет - пикет политически репрессированных возле кинотеатра «Иманта», направленный против выдвижения кандидатом в депутаты чекиста -историка - Яниса Дзинтарса. Я даже не помню, кто был конкурентом Дзинтарса. Но не это было главное. Главное было - против Дзинтарса. Мне казалось, нас живьем готова съесть толпа русских женщин - интерфронтовцев. В принципе я всегда был и остаюсь противником пикетов. В пикетах есть что-то плебейское, унизи-тельное, допустимое, может быть, только в молодости, но для взрослого интеллигентного человека занятие, прямо скажем, неподходящее. Но тогда это была чуть ли не единственная возможность (для простого смертного) выразить свою волю. Что нам еще оставалось? Роли были распределены. Мы были статистами в большой игре. Это было время, когда на удивление просто, стоило только захотеть, на волне сказанных вовремя и к месту правильных лозунгов можно было попасть на новую политическую орбиту, в новую номенклатуру. И многие этим воспользовались. Многие политики воспользовались и темой репрессий для собственной популярности и выхода на орбиту власти.
Осталась в памяти от тех дней встреча с Янисом Дзинтарсом. Как-то Игорь Носков попросил меня сходить на завод «Автоэлек-троприбор», где Дзинтарс встречался с избирателями. В помещении было человек тридцать. Я сел в заднем ряду. Какими только помоями этот субъект не поливал Латвийское государство, как новое, так и прежнее ульманисовское правительство и самого Карлиса Улманиса! А потом облил грязью НФЛ и новый Верховный Совет. Договорился до того, что существует уже решение правительства и НФЛ, принятое по инициативе Дайниса Иванса и Эдуарда Берклавса, депортировать всех русских из Латвии. Якобы уже существуют списки и наготове телячьи вагоны с решетками на окнах. Когда я попросил слова и предстал перед аудиторией как представитель Народного Фронта и обвинил Дзинтарса во лжи и провокации, мне показалось, что аудитория, которую лекция пламенного «разоблачителя», историка-чекиста довела до экстаза, разорвет меня на части.
Пишу об этом случае только для того, чтобы напомнить, что таких «дзинтарсов» было тогда пруд пруди и что сами латыши тоже сыграли не последнюю роль в борьбе против восстановление независимости. Сопротивление русских идее независимости латышей было объяснимо. И эта страна, и этот народ были для них чужими, они чувствовали себя тут как завоеватели, как наместники. Балтия для них всегда была и останется губернией Российской империи. Империя разваливалась - надо было ее спасать. Но невозможно ни понять, ни оправдать всем известных в то время латышей, таких, как историк Дзинтарс, прокуроры Дзенитис и Рейниекс, секретари КПП Рубикс и Потреки, экономист Диманис, полковник Виктор Алкснис и им подобные. Я пытаюсь их понять, найти какой-то смысл, логику в оправдание их поступков. И не могу найти никакого другого объяснения, кроме отклонения психи от нормы.
Можно только удивляться тому, сколько людей были вовлечены в политику - и в России, и у нас. С большим интересом, как цирковые представления, смотрели мы и сравнивали в конце восьмидесятых - начале девяностых заседания парламентов СССР и ЛССР. И было очевидно превосходство нашего, хотя пока еще советского, парламента над «стадом баранов» Союзного парламента. Но со временем пришлось признать, что резкое различие, которое наблюдалось вначале, с годами проявлялось все меньше. Почти исчезла разница в уровне интеллекта, интеллигентности. Но! У большой страны, у большого народа все громаднее и величественнее, больше возможностей во всех сферах жизни. Большому народу даже футбольную команду укомплектовать проще. Совершенно естественно - таких шутов и глупцов, как в великой России, хотя бы в их парламенте, в нашей маленькой Латвии не найти. Но в нашей стране трудно найти и таких умных, интеллектуальных, образованных людей, каких немало в громадной России. У нас «и труба ниже, и дым
Но Латвия, как в той восточной пословице о караване и лающем шакале, шаг за шагом шла навстречу независимости и демократии. Возникали партии. Одна другой правильнее и патриотичнее. Не успев родиться, они тут же раскалывались, как повелось у латышей, в основном по причине: партий мало, а начальников много. Возникла, или лучше, была восстановлена Социал-демократическая партия. Казалось бы, «болезнью левизны» латвийское общество уже переболело. Но нет. В сознании кое-кого, очевидно, так глубоко засели советские политические уроки, что от этого бреда не так-то легко было избавиться. Однако поскольку коммунизм якобы уже не котировался, а незаметно перепрыгнуть из крайне левых в крайне «правые» было невозможно, да и нелогично, решили остановиться где-то между «центром» и «левее» и назвать себя социал-демократами, вспомнив, что была когда-то такая партия, к тому же сильная, привечаемая даже самим Райнисом. Но каких только «пакостей» не натворила эта партия, сколько зла она причинила Латвии и ее народу и в 1905, и в 1917 и 1919, и в 1940 году - этого-то бородатые мальчики и не знали. Не знали, что «социки», как и большевики, руками и ногами сопротивлялись созданию независимого Латвийского государства в 1918 году, и только поняв, что это неизбежно, присоединились к зачинателям, чтобы не остаться за бортом. Этого наши новоиспеченные социки не знали. Из истории они черпали лишь то, что им было выгодно. В Европе ведь социки были у власти в нескольких государствах. Но эти партии выкристаллизовались, очистились от пережитков прошлого, да и государства были богатые, там уже было что делить, но и их прошлое было в черных пятнах. Выдача латышских легионеров русским тоже на совести социков, находившихся в Швеции у власти, - кокетничали они с коммунистами. Слабо знал историю кое-кто из энтузиастов третьей Атмоды!
Раскололась и коммунистическая партия, в основном по национальному принципу. Коммунисты латыши отделились от русских. Это, на мой взгляд, была глупость. Надо было просто выйти из партии. Отделившаяся часть надеялась, видимо, получить хоть сколько-то партийных (возможно, и КГБ) денег. Кое- кому это, похоже, удалось. Но поскольку слово «коммунизм» стало непопулярным, отколовшаяся часть спустя какое-то время и назвала себя социал-демократами. Меня это уже не интересовало, так как я давно вышел из партии.
И в правом - национальном крыле происходило кое-что интересное. Звучали национальные и демократические лозунги, но слишком долго люди жили в условиях коммунистической системы и слишком глубоко укоренилась в них характерная для старой системы нетерпимость, нежелание считаться с чужим мнением, демагогические вопли - существует, мол, лишь одна правда, «Кто не с нами, тот против нас» и т.п. И там шло расслоение или, по крайней мере, были попытки, желание наиболее активных индивидов любым путем пролезть в политику. Я не испытываю никаких симпатий к Юрису Боярсу, но следует признать, что иногда ему удавалось сказать нечто умное и меткое, как, например, в газете «Атмода» от 20 августа 1991 года: Ни одному врагу не удавалось расколоть латышский народ так, как удалось это нашему глашатаю Иргенсу и Со.
Событие следовали одно за другим. Важные и не очень. Некоторые, казавшиеся в то время незначительными, впоследствии оказались решающими, и наоборот. Я принимал участие во многих, насколько позволял проклятый коксартроз. Все острее я понимал слова «нестерпимая боль», как характеризовал заболевание один медицинский журнал. Я не мог быть в первых рядах, даже не всегда мог участвовать в происходившем, но старался быть, по крайней мере, свидетелем всего, что происходило. Дневник я не вел, только время от времени записывал кое-что, и если у меня о некоторых событиях остались яркие воспоминания, то только потому, что иногда я писал для газет. Не всегда я отдавал свои заметки для публикации, не все публиковалось, зато написанное прочнее запоминалось.
Врезалось в память нападение 15 мая 1990 года на Верховный Совет Интерфронта - так называемого «Объединения трудовых коллективов», офицеров и курсантов военных училищ. Насколько серьезной была эта акция, насколько крепка нить, на которой висела тогда всего одиннадцать дней назад провозглашенная независимость Латвии? Что можно сказать сегодня? Широкого отклика это событие в средствах информации не получило. Возможно, потому, что среди защитников Верховного Совета не было ни одной видной фигуры, ни одного «народного трибуна». И не было никого, кто об этом событии мог бы кудахтать, как курица, снесшая яйцо. Депутаты сидели в Верховном доме и ждали, чем все закончится.
Оборона началась стихийно, и принимали участие в ней в основном люди старшего возраста, пенсионеры, по большей части репрессированные, собранные Игорем Носковым и старые вояки. Ради истины надо сказать, что в первых рядах стояли молодые ребята из службы порядка НФЛ (возможно, ДННЛ). Игорь позвонил рано утром, потом я названивал кому только мог, и мы собрались у здания ВС на улице Екаба часов около девяти.
Ближе к десяти с развевающимися флагами ЛССР и СССР, с громкоговорителями, разогретая до белого каления полковником Колпиным тысячеголовая толпа интерфронтовцев бросилась на штурм.
Я об этом событии написал фельетон на русском языке, который был опубликован 4 июня в газете «Балтийское время» под заголовком «Как Прибалтийский военный округ штурмовал Латвийский парламент». Почему на русском? Потому что я думал и продолжаю думать, что многие наши беды, межнациональные разногласия и несогласованность объясняются скудной в то время информацией. Латышам с их более богатым знанием языков и в среднем более высоким уровнем интеллигентности была доступна более широкая информация, чем так называемым русскоговорящим. Многое из того, что в те дни писалось на латышском языке, латышам было давно и хорошо известно и в большой степени было проявлением графомании. Но это и понятно. Пятьдесят лет латыши были лишены возможности высказывать свои мысли вслух, а куда уж излагать на бумаге. Для не знавших латышского языка все происходившее тогда в Латвии было и осталось, как говорится, темным лесом.
Почему фельетон? Потому что в свершавшемся в те дни действительно было много комического. Во всяком случае, на мой взгляд.
Толпа, собравшаяся на Домской площади, несколько раз пыталась прорвать цепочку защитников и ворваться в здание Верховного Совета, но безрезультатно. Мы стояли стеной. За нами, в «последнем эшелоне», у самых стен ВС, сцепившись локтями, стояла цепь невооруженных милиционеров. Среди нас появились литовцы со своим флагом, который нападавшим удалось вырвать из рук знаменосца, но флаг отвоевали, только уже со сломанным древком. Развевались флаги Эстонии, Грузии. В давке кто-то потерял ботинок, и он несколько раз перелетал через «линию фронта», пока снова не оказался у владельца. Слышны были даже крики «Шайбу! Шайбу!» Однако следует сказать, что в противостоянии не пользовались никакими предметами, способными наносить удары, никто не пускал в ход кулаки, даже ругательств не было слышно. Звучали песни - продолжалась «песенная революция».
Обоюдная давка вначале происходила только на одном «фронте» - там, где Маза Трокшню вливается в улицу Екаба, а когда нам пришла в голову мысль, что нападающие могут подойти и с тыла, было уже поздно. Около одиннадцати со стороны Арсенала донесся странный гул. И страшно, и комично выглядела толпа бегущих, задыхающихся толстых офицеров в сине-серых шинелях. Вместе с ними бежали и молодые ребята в штатском (как выяснилось впоследствии, курсанты военных училищ Алксниса и Бирюзова). Интересно, что офицеры были по большей части полковники и подполковники и почти все с солидным брюшком. Повторяю - было страшно, но и смешно. Это позорное пятно на русских офицерах и русской армии. Вспомнилось осуждающее отношение моего отца к танцевавшим на публике русским офицерам в 1940 году.
После открытия «второго фронта» несколько минут царила растерянность с обеих сторон, потом толпа со стороны Домской площади прорвала цепочку защитников, объединилась с полковниками и курсантами и бросилась к дверям парламента. Нас буквально смело со ступеней. Не выдержала натиска и милицейская цепь. А потом произошло то, чего меньше всего ждали. Распахнулись двери, и на пороге появились «черные береты» с дубинками и щитами. Абсолютно неожиданно. Это был шок. Через пару минут, после нескольких ударов дубинками по офицерским фуражкам, все закончилось. В фельетоне я писал, что в тот момент я вспомнил анекдот военных времен - немцы заняли лесок, партизаны их выкурили оттуда, потом немцы прогнали партизан, партизаны снова немцев и т.д., пока не пришел лесник и не выгнал и тех, и других. Анекдот так рассмешил всех в редакции, что его напечатали без купюр.
Действительно лив тот день омоновцы спасли наш Верховный Совет? Сейчас можно только гадать, была-не была попытка военного переворота. Что полковники собирались предпринять, ворвавшись в здание? Посмотреть, как оно выглядит изнутри? Не был ли тот день одним из тех, когда наша хрупкая независимость висела на волоске? «Черные береты» могли повернуться на сто восемьдесят градусов, вместе с офицерами войти в здание парламента и произнести знаменитую фразу, которая в 1917 году вогнала Россию в могилу: «Караул устал, освободите помещение!»
Север не оставлял меня. Сверлила мысль - в Агапитово и в Плахино должны стоять памятные кресты. Барановскис писал, что в Игарку вскоре после нашего отъезда прибыла группа литовцев, вырыли из могил останки своих родных и увезли их в Литву. В 1989 году литовцы снова побывали в Игарке. Всего в Литву из Игарки были вывезены останки 119 литовцев. Были они и в Ермаково, и в том лагере, где побывали мы. Посетили лагерь и какие-то то ли голландцы, то ли бельгийцы. Те даже из карцера крышку параши вместе с цепью забрали в качестве сувенира. За тачку эпохи строительства трассы даже «Мерседес» обещали, только ни одной тачки не нашли.
Я прикидывал и так, и сяк, но ни одного сумасшедшего, кроме Зигиса, на такое путешествие подбить не сумел. Ингвар обирался в США, задумал на велосипеде пересечь весь континент, продолжив, таким образом, начатое в семидесятых годах путешествие вокруг «шарика». У Ивара тоже были другие планы. И тут в качестве третьего спутника нас вызвался сопровождать сын моего старинного приятеля по охоте Модриса Рубениса Петерис. Ехать втроем можно, но установить тяжелый крест будет трудновато.
И тут случай свел нас с кинодокументалистом Ромуалдом Пипарсом и его командой - Олегом Котовичем и Кристьяном Лухайерсом. Пипарс задумал снять фильм о событиях «страшного года», о сосланных в Сибирь. Мать Кристьяна была геолог, с ней я когда-то вместе работал. Она знала, что я был в сибирской ссылке. Вот так Пипарс и нашел меня. Он слышал о «мертвой дороге» и был готов отправиться туда уже в мае. Пришлось объяснять, что в мае там еще лежит снег до... а замерзнуть вполне можно и в июне.
Мой замысел - установить кресты на берегу Енисея - был восринят с восторгом, как одна из главных тем фильма. Нас с Зигой приняли в съемочную группу консультантами - «проводниками». Журналист Илмар Латковскис ехал как сценарист.
Выехали мы в конце июля. На сей раз заполярная Игарка встретила нас палящей жарой. Напрасно я пугал своих спутников июньскими морозами. Два года назад, когда мы с Зигой шли по этим же местам, температура редко поднималась выше десяти градусов. В тот раз это заставило меня вспомнить юность, когда я, в немыслимых обносках, босиком или в обмотках из рваных сетей, забрасывал сеть в ледяные воды Енисея.
А сейчас нас обжигало горячее солнце и брызги волн приятно освежали. Нанятый Леопольдом катер мчал нас в Ермаково. На сей раз на осмотр времени у нас было больше. Да и погода была лучше. Исходили весь город, его заросшие кустами и высоченной травой улицы, осмотрели заброшенные дома, многие из них за минувшие после нашего отъезда годы лишились некоторых из еще остававшихся деталей. Паровоз в депо стоял по-прежнему, но тоже изрядно «похудевший».
С приключениями, вновь отыскивая дорогу, добрались, на-конец, до лагеря. И здесь видны были следы мародерства. Хорошо еще, что не сожгли, как спустя годы сожгли некоторые лагеря на трассе. По одному из отрезков «мертвой дороги», только с запада, заинтересованные и вдохновленные моей информацией, отправились двое туристов из Риги на велосипедах, специально приспособленных для поездки по колее, которая в средней части трассы еще сохранилась. Мосты через некоторые речки снесло весенним половодьем, и над водой болтались только рельсы. Они рассказали, что многие лагеря в той стороне сожжены. Вода загажена нефтяниками, так что пришлось десятки километров тащить на себе бидоны.
Ночью мы вернулись на берег, едва волоча ноги. С удовольствием констатировал, что и «киношники» устали не меньше меня, с моим коксартрозом и большой разницей в годах. Все-таки пригодились тренировки, мой туристский опыт.
Подошел катер, и утром мы были в Игарке. Вновь бродил по городу в поисках знакомых мест. Сходили на литовское кладбище. Здесь рычал бульдозер, выкапывая мертвецов, которых отыскали приехавшие родственники. По-моему, в этом не было ничего хоро-шего и вряд ли могло быть оправдано даже самыми благородными Целями. Одного выкапывали, другой оставался в земле, могилки перемешали. Тем же летом литовцы выкапывали своих родствен-ников в Инте. В одной из общих могил мертвые так сцепились ребрами, что трудно было разделить. Лучше бы оставили с Богом. Но, насколько я мог заметить, литовцы вообще мало считаются с чужим мнением (да простят меня братья-литовцы!)
Ходили по городу, снимали, потом закупили продукты и на-правились к главной цели нашей поездки, для меня, по крайней мере, - в Агапитово и Плахино, где предстояло вытесать и водрузить памятные кресты. Вместе с нами вызвался ехать человек, назвавшийся корреспондентом, но мое чутье подсказывало, что он из «органов».
Снова я ступил на берег «Острова смерти» - исполнить данное два года назад
самому себе обещание - увековечить память погибших здесь полвека назад, о чьей
судьбе и вообще о том, что происходит в Агапитово, я знал в то время очень мало
и мало интересовался.
Был поздний вечер. Поставили палатки, разожгли костер. Из дома на горе к нам
спустился телефонист. (Связь теперь здесь осуществлялась не по радио, как
когда-то, а по телефону. Вдоль берега Енисея была протянута телефонная линия,
контроль за которой и был поручен телефонисту, - по двенадцать с половиной
километров на север и юг от дома. У каждого телефониста была моторка и
рыболовные снасти.) Встретил нас телефонист радушно. Как полузабытую легенду
рассказал он нам, что произошло здесь давным-давно. Он сказал, что слышал об
этом от старожилов Игарки, и был поражен, узнав, с какой целью приехал сюда я,
очевидец случившегося.
Телефонист угощал нас осетриной и стерлядью. Большин-ство моих спутников этаких зверюг видели впервые. Каждая рыба весила по пять-шесть килограммов. Тут же с берега за-кинули выданную нам телефонистом сеть. Через некоторое время Ромуалд на лодчонке размером не больше детской ванночки решил проверить сеть. Первую добычу - килограммового окуня - он с гордостью бросил на берег, который находился метрах в шести от лодки. И случилось то, что по законам физики и должно было случиться, - окунь полетел на берег, а наш счастливый рыбак - в противоположную сторону, через борт в ледяную воду Енисея. Мы с восторгом поймали окуня и с еще большим восторгом приветствовали нырок Ромуалда в Енисей в день его именин.
Два года назад у нас не хватило ни сил, ни времени на то, чтобы установить крест, вырезали только несколько крестов на стволах берез. Все наши силы мы потратили тогда на борьбу с бушующим Енисеем и закоченели на ледяном северном ветре. Но если откровенно, вернувшись в эти места спустя пятьдесят лет, я пребывал в состоянии, подобном шоку.
На сей раз наши действия мы обсудили еще дома. Подходящие стволы отыскали в километре от места, где собирались установить крест. Полдня прошло, пока мы справились. На перекладине вырезали, а потом выжгли только цифры: 1942, 1943,19... Еще в Риге мы решали, какую надпись оставить. На русском языке не годилось, напишем на латышском - найдется болван, который решит, что крест с надписью на чужом, каком- то «фашистском» языке следует уничтожить. Русские испокон века ненавидели все чужое. Ненавидели и преклонялись. Как и положено рабам.
Вытесали шестиметровый крест из смолистых сосновых бревен. Я предлагал дотянуть их на веревках до реки, а потом сплавить. Осталось бы самое сложное - у Агапитово поднять крест на крутой берег. Киношники моим предложением были возмущены - крест обязательно надо нести на руках, да так, чтобы было видно, что это крест. И нести нам троим - мне, Зигису и Петерису, поскольку киногруппа будет занята съемками, фотографированием и записью звука, кроме того, никто из них не должен оказаться в кадре.
Мы несли, упираясь, падая на круглых прибрежных камнях. Два-три метра пройдем, отдыхаем, потом снова тащим, пока Ромуалду и Олегу не показалось, что снято уже достаточно, и они пришли на помощь. Но тут в природе произошли какие- то изменения - то ли с солнцем, то ли с облаками, и наши помощники, бросив нас, снова схватились за камеры: «Дубль! Еще дубль!»
Наконец крест на береговой круче. Ломами мы принялись долбить замерзшую, твердую, как гранит, землю. Оттаяла земля всего на каких-то пятнадцать-двадцать сантиметров. Разожгли костер, и снова принялись долбить, копать, разгребать. И все это время меня преследовала мысль, что вот так же пятьдесят лет назад здесь долбили вечную мерзлоту женщины и дети, чтобы строить землянки и хоронить мертвых.
Наконец яму выкопали, все готово. Телефонист с женой пришли помочь, захватив с собой еще одну толстую веревку. Нижний конец креста на краю ямы, веревки накинуты на верхний конец. Все готово. Только вот с небом, с заходящим солнцем и облаками не все, как надо. Ждем. И вдруг команда! И поднялся крест-великан, освещаемый пробившимися сквозь облака лучами заходящего солнца!
Брошена последняя лопата земли, уложен последний камень. Крест стоит на высокой
береговой круче. Я приложил ладонь к теплому сосновому брусу. Крест вибрирует
под напорами сильного северного ветра и словно бы тихо звенит. Мы молчим. Может
быть, следует что-то сказать? Но я не в силах. Может быть, прочитать молитву? Но
кто из нас ее знает? Совсем недавно мы вновь обратились к Богу, главным образом
для того, чтобы вымолить Свободу... В душе звучит хорал отголоском детства и
времени, проведенного в зарешеченном вагоне: «На Тебя,
Господи, уповаю...» Молча мы спускаемся по обрыву, думая каждый о своем. Я думал
о том, что в моей жизни это еще один «звездный час». Мне кажется, что я сделал
нечто непреходящее, что так необходимо для нашего пробуждения.
Как ни планируй, не все, что задумано, получается. Установив крест в Агапитово, я рассчитывал на моторке телефониста перебраться на другой берег, в Плахино, и там тоже поставить большой крест, чтобы и он был виден издалека. Но налетел такой шторм, что о переправе нечего было и думать. Решили крест для Плахино сделать тут же, в Агапитово, а потом на катере, который на обратном пути из Хантайки должен был нас забрать, доставить его в Плахино и там установить. Учел я и то, что обычно возле Плахино бревен на берегу бывает мало. Не в каждом месте по берегу Енисея их можно найти. Иногда половодьем в одно место сгонит горы бревен, а на протяжении десятков километров бревна встречаются только изредка. Так было и в Плахино.
Крест был готов, а катера все не было. Ветер немного утих, и мы уговорили
телефониста перевезти в Плахино хотя бы двух человек, чтобы они начали рыть яму.
Поехали мы с Петерисом. В Плахино умер во время дизентерии дед Петериса, папаша
Путныньш, который вылечил когда-то маму коктейлем из спирта с вареньем.
В Плахино я все же решил отыскать кладбище. И нашел - заросшее кустарником и
двухметровой травой. Кое-где кресты и даже оградки еще сохранились. По оградке,
по приметам, описанным матерью, Петерис и отыскал могилу деда. Подняли упавшие
кресты и вернулись на берег.
Пришел катер с нашими товарищами и крестом. Но установить его мы не смогли. Команда катера торопилась и не хотела из-за нас задерживаться. Вынесли крест на берег, положили на прибрежные камни и помчались в Игарку.
Еще в Риге и всю дорогу до Игарки думали, как назвать фильм. В качестве премии за лучшее название была обещана бутылка коньяка. Наконец в Игарке режиссер Пипарс нашел самое подходящее название «Город солнца». Действительно. Разве же остров смерти Агапитово, разве же каждый лагерь не был похож на фантастический «Город солнца» первого коммуниста, средневекового монаха Томазо Кампанеллы?
Ромуалда все время мучила мысль - Ермаково и лагерь надо снять с воздуха. Воспользовавшись помощью Леопольда и увеличив расходы на фильм на пару тысяч рублей, мы сели в вертолет. («Солнечный город» был последним фильмом, профинансированным Москвой. Московская киношная элита признала фильм сильным, но «злым».)
Сверху все выглядит иначе. Красиво и нереально. Кружимся над Ермаковом. Улицы, площади - все в зелени. Местами большие красные пятна - цветы. Чуть дальше хорошо просматривается трасса, паровоз. Может быть, своими железными мозгами он подумал, что уже достиг коммунизма, - «в коммуне остановка», как поется в революционной песне? Потом стали кружить над лагерем. Олег, повиснув на ремнях и веревках, снимает через открытую дверь вертолета. Остальные фотографируют, насколько позволяют маленькие иллюминаторы. Ромуалд жестами показывает вертолетчикам, что неплохо бы делать виражи покруче, чтобы удобнее было снимать. Командир разводит руками и кричит в ответ: Не забывайте, что летите вы на нашем МИГе, а не на американском «сикорском»! Из лагеря еле заметная трасса уходит на запад и исчезает вдали. Через семь- восемь километров следующий лагерь, рассмотреть который мешает дымка испарений, поднимающихся с болот. И дальше на трассе лагерь за лагерем, как нанизанные на нитку бусы. Сплошные «Города солнца» утопического коммунизма. Могли предполагать Кампанелла, создавая свою коммунистическую утопию, какие «Города солнца» возведут последователи его безумной идеи спустя четыре столетия в сибирской тайге и тундре?
В Игарке дали интервью местной газете и радио. Я сказал, что хорошо бы, если бы суда, проходя мимо Агапитово, подавали сигнал. Гиды должны рассказывать туристам о том, что здесь когда-то произошло. Побывал я и в пассажирском порту и им оставил информацию. Услышали ли меня в Игарке, не знаю. Барановскис начал болеть и через некоторое время переехал к дочери в Смоленск. Сказал только, что оставленный на берегу в Плахино крест все-таки был установлен.
Мы летим на юг, в Красноярск. Под крыльями самолета голубовато-серые воды Енисея. На правом берегу кое-где видны остатки поглощенной оттаявшей землей железнодорожной трассы. Все дальше и дальше от нас Игарка, Туруханск, Агапитово, Плахино. Мои «Города солнца». И белый крест на обрывистом берегу Енисея.
В Красноярске было много литовцев. Они искали в Красно-рской и Иркутской области останки своих родных и соотечественников, чтобы перезахоронить их в Литве. Они привезли с собой специальные ящики размером с берцовую кость (самая Длинная кость человеческого скелета). Все расходы взяло на себя правительство Литвы. Разным может быть отношение к перезахоронению, но резонанс в Сибири эта акция вызвала большой. Прошло более полувека, и не помнилось уже, были такие латыши, литовцы, эстонцы в Сибири или не были. Но когда из земли выкапывали тысячи скелетов, откликнулось по всей Сибири.
Кости латышей разбросаны по всей территории огромной Российской империи, невозможно отыскать всех, кто лежит в Таймырской и Колымской тундре, в насыпях Воркутинской и Трансполярной трассы, в степях Казахстана и в Вятских болотах. Но забывать о том, что случилось, мы не вправе. И надо ставить памятные знаки и рассказывать, и писать об этом, чтобы прошлое вечно жгло память и сердца людей.
Эти и подобные мысли не давали мне покоя на протяжении всего нашего пути. И не оставляли мысли об отце. Кто поставит ему крест, если не я? И идея о поездке в Вятлаг, родившаяся уже давно, сейчас окрепла окончательно.
В Красноярске я отыскал местное отделение «Мемориала», познакомился с его руководством, с руководителем латышкой секции Александром Лиелайсом. Он был выслан из Даугавпилса в 1941 году. Отец его был офицер Латвийской армии. Я рассказал о нашей поездке, о поставленном в Агапитово кресте.
Я сидел в номере красноярской гостиницы и смотрел передачу с заседания Верховного Совета Советского Союза. Волосы в ставали дыбом от тупости увиденного и услышанного. Но вот на трибуну вышел уважаемый многими, и мной в том числе, демократ, разоблачитель Сталина и Ленина, генерал, историк Дмитрий Волкогонов. Потек ручеек убедительных, правильных слов и вдруг:«(...) великий русский народ заслужил, и его ждёт большое будущее, великая судьба...» А мой маленький народ?
Какая судьба ждет его? Великому народу суждено великое будущее! А маленькому? Судьбу и будущее больших народов не зароешь, а судьба и будущее скольких малых народов погребены под шовинизмом и насилием народов больших! Чем же большой русский народ заслужил эту «великую судьбу»? Тем, что семьдесят лет и сам пребывал в рабстве и пытался превратить в рабов другие народы? Или тем, что все эти семьдесят лет плевал на Бога, от которого теперь ждет благословения и «великой судьбы»?
В Ригу мы вернулись с грузом воспоминаний и впечатлений. Уже спустя годы во время встреч мои «киношники», соглашаясь, не раз повторяли слова, сказанные мною еще до поездки, что неизвестно, каким получится фильм, но, добавляли они, путешествие навсегда останется в их памяти как уникальное и незабываемое.
Фильм получился хороший. Жаль, что целиком его показали по телевидению лишь однажды да было несколько сеансов в кинотеатре «Блазма». Он повторил судьбу фильмов Ингвара Лейтиса «\/\/Ы1е СИпзИтаз 2000» 1988 года, Мика Звирбулиса «ЭТИ КОСТИ, ЭТИ тела» 1989 года, фильма Зигурда Видиньша 1987 года и других фильмов первых лет пробуждения, которые лежат сегодня на полках, словно бы они никому не нужны. Не нужны? И это в то время, когда даже ученики старших классов не могут ответить на самые элементарные вопросы тележурналистов по истории Латвии и смотрят в объектив, как «бараны на новые ворота». Они и о временах Атмоды ничего не знают. Не знают о том, что произошло за последние десять лет, что уж говорить о более ранних временах! А дипломаты и политики произносят пламенные речи, клянутся в горячей любви к народу и стране. А сидящие в министерствах культуры и образования еще с советских времен чиновники и преподаватели истории выторговывают себе большие зарплаты и пенсии.
Что говорить, трудные времена начались для историков. Пришлось перечеркнуть все, чему учили десять, двадцать, а кое-кто и тридцать, и сорок лет. Некоторые фальсификаторы истории по-прежнему пытались отстаивать свои позиции, но пришлось сдать их одну за другой. От интерпретации прокоммунистической истории новейших времен хочешь не хочешь, а пришлось отказаться. Поколениям, которые были всему свидетелями, «лапшу на уши не повесишь», однако в школах кое-кто из учителей истории по-прежнему учил бедных детей советской истории. Одни потому, что иной не знали, другие потому, что не хотели знать. Преподавание истории никогда еще так не зависело от позиции учителя, как в первые годы восстановления независимости. Делом совести учителей истории и молодых ученых-историков было развеять исторические мифы, созданные и проповедуемые корифеями старой истории.
В истории Латвии существует несколько таких мифов. Один - о Карлисе Улманисе: сказка о «фашистском» перевороте в 1934 году и «кровавой диктатуре». Подобная интерпретация уже не годилось во время Атмоды и была заменена более щадящей - мифом о разгроме демократии. Но и этого хватило. Демократия во время пробуждения стала «священной коровой». Все внезапно стали записными демократами, поэтому каждое оправдывающее и обеляющее Карла Улманиса слово воспринималось как антидемократический выпад. Да и не особенно много нашлось тех, кто осмеливался сказать о Карлисе Улманисе доброе слово. Кое-кто договорился до того, что в 1934 году не только была попрана демократия, но и последовавшие события - оккупация и все из нее вытекающее - необходимо считать последствием переворота и режима Улманиса, так как он пустил в Латвию русских, и с этого все началось. Чрезвычайно много очернительных публикаций появилось в 1994 году в связи с шестидесятилетием 15 мая 1934 года. Я старался прочесть все. Ни один историк не сумел за короткий срок переосмылить освоенное на лекциях Каралюнса, Дризулса и других фальсификаторов истории (возможно, я грешу в отношении тех, кому не дали слова). Я не собираюсь вновь затевать дискуссию по таким спорным вопросам, как разгон Сейма, вероятность оккупации еще до 1940 года, несопротивление оккупации и т.п. Пусть об этом судят историки следующих поколений, но нельзя ни понять, ни оправдать нежелание вспоминать то, очевидное и сегодня, что было сделано за годы правления Карлиса Улманиса. И сделано гораздо больше, чем за те годы, когда у власти был парламент. Тысячи зданий в Риге и в провинции (которые наверняка переживут строившиеся в советское время), десятки школ, культурных и спортивных объектов, сотни километров дорог, железная дорога Рига - Эргли (которую маленькой Латвии построить, возможно, было сложнее, чем России БАМ), Кегумская электростанция и десятки малых электростанций, использование ветряных генераторов. О сельском хозяйстве и говорить не стоит (хотя и тут историки и журналисты нашли немало огрехов, выдавая свое мнение за неоспоримый факт). И ликвидация безработицы. И огромный подъем национального самосознания, пафос, который современным поколениям непонятен и которого сегодня, возможно, больше всего не хватает. Об этом ни слова! И о самых первых годах независимости, о годах освободительной борьбы, самых трудных годах, когда руководил страной Карлис Улма- нис, - и об этом ни слова! И о более ранних временах, о том, какие трудности пришлось преодолевать самому Улманису (и в борьбе с социал-демократами), чтобы 18 ноября декларация была принята. И об этом ни слова. Я не стану называть имена историков, политиков, журналистов, которые в 1994 году и до и после топтали память Улманиса. Не буду упоминать потому, что некоторые по прошествии лет изменили свое отношение. Но я сомневаюсь, что руководило ими убеждение. Просто нельзя не идти в ногу со временем.
Кто проиграл в результате путча 1934 года? Только политики (в основном левые) и вся тысячеголовая масса бездельников, подхалимов и жуликов в окружении политиков и около политики. А народ только выиграл.
Думается, одним из самых негативных явлений в первые годы независимости была
нехватка компетентности во всех сферах жизни. В последние десять-пятнадцать лет
коммунистической власти партийная принадлежность уже не была главным критерием
при назначении на ведущие должности, человек должен был быть специалистом, а
когда старая власть рухнула, часто у руля оказывались люди лишь благодаря своей
принадлежности к той или иной новой партии, приятельству или неизвестно каким
путем полученным деньгам. Очень часто интервал между принадлежностью к бывшей
партии и вступлением в идеологически противоположную был до смешного коротким.
Возможно, и принадлежность к коммунистической партии такому человеку не давала
никаких привилегий, зато, вступив в новообразованную партию, он получал хорошую
«работенку». И снова он был при партбилете, но знаний это не прибавляло. Как
когда-то пришедшим к власти в первые послереволюционные годы в России.
Вспоминался ленинский постулат о том, что «кухарки будут править государством».
Только на власть и руководящие должности претендовали уже не кухарки, кузнецы и
слесари, а представители из кругов, которые в России именуют «полусвет». Если
расшифровать - люди любой ценой стремящиеся подражать высшему обществу
(«свет»), но ни по каким критериям не в состоянии с ним равняться, даже в
смокинге, даже во фраке. К сожалению, немало таких людей оказалось на высоких
должностях. Кое-кто даже в парламент попал, а кто-то и в министры. И, получив
хорошую «работенку», стал тащить за собой старых приятелей, знакомых еще по
комсомольским временам или по спорту, зачастую гораздо глупее себя. А большая
часть специалистов так «зациклилась» на социалистической системе, что не в
состоянии была перестроиться. Особенно это относилось к юристам. Но что было
делать? Ведь именно юристы больше всего нужны были молодому государству. Без
старых специалистов обойтись было невозможно, но они должны были и сами понять
ситуацию, оставаться исполнителями, чиновниками, не рваться в правительство и
законодательные органы. О таких русская пословица говорит: «От скромности не
умрет». От таких была и продолжает оставаться лишь кажущаяся польза, а зачастую
больше вреда, чем пользы. Но это, очевидно, неизбежно. Было бы странно, если бы
мы безболезненно перепрыгнули из одной системы в другую.
Нечто подобное наша страна и народ переживали семьдесят лет назад, в первые
годы существования нашего государства. В изданной в начале 30-х годов «Черной
книге» участника Освободительной борьбы капитана в отставке О.Вицупа названы
десятки фамилий и описан «тернистый» путь этих людей из свиты Петериса Стучки в
Сейм и Кабинет министров Латвии. Вот несколько фраз из книги, которая в печати
тех лет была названа сенсационной:
«Многие из тех, кто с оружием в руках или пламенными речами и статьями сражался против Латвии, возвратились как ее самые большие друзья. Эти перебежчики из чужих краев (из России - И.К.) выдвинулись на высокие ответственные посты, в то время как борцы за свободу Латвии спускались все ниже. И многие из них забыты. Многие погибли трагической смертью, никто о них больше не вспоминает, в то время как бывшие противники Латвии, заняв высокие должности, стали депутатами и министрами, обвешались орденами, стали «солью» нашей земли. И произошло чудо: такое положение уже считают почти нормальным...»
Как характерный пример в книге упоминается министр юстиции и депутат Сейма тогдашней Латвии, активно вершивший суд во время правления Стучки над дезертировавшими из Красной армии и теми, кто только подозревался в антипатиях к правительству Стучки. Через несколько лет, будучи товарищем председателя Латгальского окружного суда, этот человек судил коммунистов. На политической сцене он вновь возник в 1940 году как министр юстиции в правительстве Кирхенштейна.
Во всем существует причинная связь, и в том, что происходило в описанные О.Витрупсом первые годы независимости Латвии. Многое тогда было неизбежным, тем более для нашего малочисленного народа. Одна из причин - кумовство. Знакомство, родственники, дружба и т.п. Вторая, тоже неизбежная, - слишком мало было среди латышей специалистов, например, юристов, а молодому государству без них было не обойтись, хотя кое-кто за несколько месяцев коммунистической власти себя скомпрометировал. Это было неприятно, для многих неприемлемо, многие разочаровались. Несколько участников Освободительной борьбы ушли из жизни, столкнувшись с явной несправедливостью.
Вряд ли корректно проводить параллели между судьбами людей и событиями в разные периоды истории, поскольку равнозначных ситуаций в истории не бывает. Как говорили древние китайцы, «во всём надо учитывать время». Нет сейчас у нас ни тех, кто возвратился из страны коммунизма, ни тех борцов за свободу, какие были тогда. Что ж у нас есть? Кто сегодня в сходных условиях формирования государства, только спустя семьдесят лет, мелькает в верхних слоях общества? Кто они, в чьих руках сегодня судьба народа и страны? Много похожего в «тогда» и «сейчас».
А как с компетентностью? Дефицит ее по-прежнему ощущается, но беспокойства уже не вызывает. Но беспокойство, даже ужас вызывает коррупция, обворовывание народа и государства. По существу, началось все в первые же дни восстановленной независимости, но не бросалось в глаза только потому, что занимались этим умные, экономически и юридически подкованные люди, по большей части даже не преступая законы, используя только их несовершенство и некомпетентность чиновников. Народ продолжал пребывать в эйфории - «пусть в лаптях, но свободные!» и не обратил серьезного внимания на то, как группка «веселых и находчивых», сбросив лапти, во фраках и лаковых штиблетах продефилировала мимо. Им, безусловно, достались не только деньги, но и власть. И тут кое- кто из отставших спохватился, что остался ни с чем, бросился воровать открыто, наплевав на все законы, убежденный (и не без основания) в том, что слепая латвийская Фемида этого не заметит. Потому что деньги для взятки у него есть и за ним стоит партия. Главное не ум и находчивость, главное наглость и доступная им, но скрываемая от народа информация - где и что еще можно «урвать».
Первая часть «Черной книги» вышла в 1931 году, вторая - в 1933-м, очень
маленьким тиражом, в основном по предварительной подписке, и сразу же стала
библиографической редкостью. Второе издание было приостановлено «сверху».
Возможно, в книге упоминались слишком много «видных» персон?
Наступило 15 мая 1934 года, когда на волне народного па-триотизма было забыто
многое. Прекратились раздражавшие народ межпартийные склоки, не было больше
высокой трибуны Сейма, откуда можно было произносить патриотические речи, пороча
друг друга. И на фоне всеобщего подъема и единства народа разоблачительная
«Черная книга» утратила свою актуальность.
В конце того же, 1990 года, мне пришлось еще раз проделать путь в Сибирь. Я был приглашен в Красноярск на учредительный съезд Латышского культурного общества. Об этом разговор состоялся еще летом, когда я встретился с Александром Лие- лайсом. Общество было создано на базе латышской секции Крас-ноярского отделения «Мемориала». Неоценимым было значение этого события для тысячи семисот живших в городе латышей (в области их насчитывалось около шести тысяч).
Съезд состоялся в здании одного из райкомов партии города. Зал был полон. Было 18 ноября. В далеком сибирском городе развевался красно-бело-красный флаг и звучало «Боже, храни Латвию!» Съезд, правда, проходил на русском языке, так как из молодого поколения мало кто владел латышским.
Я был приглашен потому, что в Красноярске знали о моей летней поездке по северным районам области, о кресте, установленном в Агапитово. Меня попросили об этом рассказать. Я начал с того, что привел слова великого русского полководца Александра Суворова о том, что битву нельзя считать победой, пока не похоронен последний павший солдат. За точность не ручаюсь, во всяком случае, смысл сказанного был именно таков. Сказал, что семьдесят лет шла война между коммунистической партией и народом (после этих слов по залу пробежал шепот). Я говорил о том, что народ, наконец, как будто бы победил, но на полях битвы остались безымянные жертвы войны. Поля битвы - это места заключения и ссылки, на просторах России их тысячи, и мы не имеем права забывать павших.
Мои слова о партии не все восприняли однозначно. Некоторые считали их преждевременными, ведь шел только 1990 год, и в далекой Сибири большинство все еще пребывало под гипнозом коммунистической идеологии и страха. Но трудно было найти в России латыша, кто сам или чьи предки не были бы репрессированы.
Латыши в Сибири оказались по разным причинам и в разные времена. В Красноярский край первые латыши были доставлены в цепях, после крестьянских беспорядков в Видземе. За ними сюда пришли те, кто надеялся обрести в Сибири землю и свободу. Потом Первая мировая война, которая привела сотни тысяч латышей в Россию и многих в Красноярский край. В годы гражданской войны десятки тысяч латышских стрелков осели в России, однако возвратиться было не легко. В двадцатые годы, даже совершенно легально перейдя границу, очень просто было оказаться не в Латвии, а на том свете. По принципу: «Кто не с нами, тот против нас». Почти все оказавшиеся в России в разные времена латыши пострадали от коммунистического террора только за свою национальность. Некоторые сами участвовали в терроре. Но и они в конце концов были уничтожены. Проводилась специальная антилатышская акция - «латышское дело». Это стало началом геноцида латышского народа. А потом наступил 1941-й, за ним 1949 год. Вообще-то поток латышей в Сибирь не прерывался на протяжении полувека - с 1940-го до конца восьмидесятых. Многие проделали этот путь не один раз. Среди них и тысячи детей.
Еще десятки, а может быть, сотни тысяч латышей живут к востоку от своей родины. Большинство там и останется. Осуждать их я не хочу, но и понять не могу. Их можно пожалеть, но делать из них «святых мучеников» не стоит, во что бы то ни стало стараться вернуть их в Латвию тоже, по-моему, не надо. Кто хотел вернуться, давно вернулся без всяких приглашений, не надеясь ни на какие привилегии и тепличные условия. Неважно, сколько будет латышей, важно, какими мы будем.
Большинство сибирских латышей, однако, сохранили если не язык, то трудолюбие и мастерство, типичное для латышей стремление к знаниям, к образованию, стремление жить лучше других и все то, что трудно сформулировать слова, но что в целом характерно только для латышской ментальности. А тот, кто в чужой стороне ничего не добился, кто возвращается на землю отцов только в поисках счастья и полагает, что его здесь встретят с распростертыми объятьями, такие Латвии особенно и не нужны. Да простит меня Бог за эти слова! Но произношу я их с чувством полной ответственности: я имею право так говорить, потому что я сам, как только появилась возможность вернуться, оставил хорошо оплачиваемую, интересную работу и с женой другой национальности и маленьким ребенком поехал навстречу неизвестности, обратно в страну, из которой дважды был выдворен. Это моя родина, без которой я не представляю своей жизни.
Во время съезда я познакомился со многими интересными людьми: с профессором Янисом Кунгсом, инженером Франци- сом Даудишсом, Гиршем Файгельсоном, директором Красноярской художественной школы Гунаром Улманисом (который сейчас в Латвии восстанавливает родовое гнездо Улманисов хутор «Пикши»). Они были учредителями съезда, все высланные в 1941 году. Председателем был избран Александр Лиелайс. (Через несколько лет он умер.)
Встретился с одним из друзей моей юности. Когда я закончил свое выступление, в зале прозвучал вопрос: «Не тот ли ты Илмар Кнагис, с которым мы в Игарке на танцы бегали?» К моей большой радости, это оказался Лева Юделович. Он жил в Лесо- сибирске и занимал довольно высокую должность.
В первые годы Атмоды мне очень часто приходилось вступать в контакт с иностранными журналистами, рассказывать о высылке, о Сибири, о первых крестах, увековечивших память погибших. Мы считали важным дать Западу как можно больше информации о нас. В беседах с иностранцами поражало то, как мало они знают о событиях, происходивших во время русской оккупации Латвии. Знали они лишь, что русские были их союзниками в войне против фашизма, и не понимали, почему мы рассказываем им только о злодеяниях чекистов. Приходилось, как испорченная пластинка, повторять одно и то же, что, во- первых, пятьдесят лет шла речь только о преступлениях нацизма, а о том, что творили коммунисты, ни слова, во-вторых, вред, причиненный нацистами, намного меньше (по крайней мере, латышскому народу) причиненного злодеяниями коммунистов, настала пора говорить и об этом.
Нужно было также рассказывать о нашем прошлом так на-зываемым «русскоговорящим». Они о нем знали так же мало, как иностранцы, но знать хотели. Особенно молодежь. В начале Атмоды каждый год 14 июня и 25 марта русскоязычные учебные заведения просили Клуб репрессированных прислать кого-нибудь, кто мог бы рассказать о депортациях. Они ничего не знали не только о том, что происходило в Латвии, но и о том, что произошло с их дедами в России. Мне самому пришлось выступать во многих школах и техникумах, и очень жаль, что мало было тех, кто считал это своим долгом. В дальнейшем такие встречи вообще перестали практиковаться, руководство многих учебных заведений не считало подобные мероприятия необходимыми. Мы как бы переняли эстафету у старых «борцов», которые до нас перед каждым юбилеем революции рассказывали о своем революционном прошлом, о том, что «они видели Ленина».
Как-то в июне рассказать о высылке меня пригласила отколовшаяся от КПЛ группа коммунистов-латышей, которая ютилась в доме на углу Тербатас и Блауманя. Я с готовностью согласился. Читать лекции на эту тему я готов был и самому черту. Чувствовалось, что тем, кто помоложе, многое в моем рассказе неизвестно, непонятно и даже вызывает недоверие.
Тревожный 1991-й. Январские баррикады и не поддающееся описанию ощущение единства. О том, что происходило в те дни, написано много, но даже те, кто в те дни был как бы на самом верху, интерпретируют одни и те же события по-разному. Я был рядовым защитником баррикад, к тому же ограничен в передвижениях. Страшно болела нога, и если бы не баррикады, мне уже в январе сделали бы операцию.
И сегодня, глядя с «высоты моих лет», могу сказать, что никто ничего особо не организовывал. Во всяком случае, сначала. Все происходило почти спонтанно, стихийно. Сейчас говорить можно все. Существует версия, что начало НФЛ, как и много другого, следует искать в чека.
Если и было так, то чека явно просчиталось. Инициатива вы-скользнула из рук чекистов. Власть России было уже не спасти. На баррикады вышел народ. Без всяких вождей, героев и трибунов. В позднейшие годы ножом по сердцу были славословия в свой адрес некоторых «героев», принижение заслуг других. Перефразируя стихотворение советского поэта Маяковского, которое когда-то мы учили в школе, - «пускай нам общим памятником будет построенный в боях социализм», - хотелось сказать: «Не будем делить славу! Пускай нам общим памятником будет восстановленная Латвия!»
Истины ради надо признать, что уже ранним утром 13 января Одиссей Костанда организовал напротив здания Верховного Совета группы защитников Старой Риги. Мелькал и Юрис Добе- лис. Больше никого ни из политиков, ни из руководства страны я в то утро не видел (не утверждаю, что их не было). Костанда распределял людей по группам, показывал, где какая группа должна находиться. Что было, то было. Это я должен признать, хотя ни к Костанде, ни к Добелису симпатий не испытываю. Наоборот. В их Дальнейшей политической деятельности я усматриваю больше отрицательного, чем положительного. Не могу «переварить» «запуск» авантюриста Зигериста на нашу политическую арену, к чему немало сил приложил Костанда. Виноваты были и кое-кто покрупнее рангом, но они (как опытные подпольщики) вовремя отошли в сторону, поняв, что совершили глупость. Глупость ли? А может быть, им хорошо заплатили? И не только из партийной кассы. Одновременно с возникновением партий и распределением должностей расцвела и коррупция. Вначале, правда, еще с оглядкой, осторожная.
Почти каждый день и даже ночами я находился или на Домской площади, или около Совета министров и телеграфа. Я фотографировал. Это были незабываемые дни, с трудом вос-принимаемое событие. Как и «Балтийский путь».
13 января должно было состояться собрание и переизбрание правления Клуба политически репрессированных. Собрались, но говорили только о событиях в Вильнюсе и о том, что ждет нас и что нам делать. Переизбрание решили отложить: слишком тревожное было время, ожидать можно было чего угодно. Направились на набережную Даугавы. А там море флагов! Мелькнула мысль, что в 1905 году, тоже 13 января, русские драгуны стреляли в латышей здесь же, на набережной Даугавы.
Над нами барражировал вертолет и разбрасывал прокламации - воззвание «Вселатвийского комитета общественного спасения». Почти все листовки оказались в Даугаве, что вызвало всеобщее веселье. Достигли цели единицы. На что они надеялись? По-моему, надо было быть полным идиотом, чтобы не понимать, что происходит.
Настроение было великолепное (если бы только не болела спина и нога). А потом было шествие по улицам Риги с флагами, песнями и антипартийными выкриками возле конторы Рубикса, у памятника Свободы. В Старой Риге строились первые баррикады. И были костры, чай, кофе и бутерброды, песни и молитвы, и ночи на Домской площади, когда многие, десятилетиями не вспоминавшие о Боге, вспомнили о Его существовании, ибо в те дни все было в руках Божьих.
Вечером 20 января я шел домой с Домской площади. Миновав Гильдию, услышал странный треск, как будто кто-то ломал палки через колено. Понял, что это выстрелы. Выйдя на улицу Вальню, увидел над бульваром Райниса очереди трассирующих пуль. Бросился обратно. Забежал в подвал Малой Гильдии, в киностудию Ромуалда Пипарса. Команда Пипарса уже выбегала на улицу с кинокамерами.
В киностудии работало четыре телевизора, и каждый показывал свое. На одном экране американцы бомбардировали Ирак, на втором знаменитый руководитель КВН Масляков развлекал московскую публику канканом полуголых девушек, третий показывал события в Риге, на четвертом смотрели только что доставленные с мест событий кассеты. Виктор Калнберзс ковырял пинцетом раздробленную голень какого-то милиционера и вытаскивал осколки кости. (Кто был этот милиционер и где он сейчас?) Показывали раненого московского журналиста Брежнева и какого-то перепачканного кровью иностранца - финна или шведа. Слепая пуля ранила кого-то недалеко от вокзала. А потом Слапиньш и Звайгзне! И два милиционера и какой-то школьник! Автоматные очереди по видео- и кинокамерам. США передают о событиях в Риге. А в Москве красивые полуголые девочки дрыгают ножками...
Что произошло той ночью? Кажется, мы никогда не узнаем всей правды. Какую роль играл каждый из тех, кто впоследствии умно рассуждал? Кто теперь скажет! И кому можно верить? Сейчас каждый старается выставить себя в наилучшем свете. Одно только знаю - это я видел собственными глазами - большинство защитников баррикад были люди пожилые и по большей части в разное время репрессированные советской властью. Им нечего было терять, как и печально известному пролетариату Карла Маркса, - кроме своих цепей. Если бы возникла необходимость, эти люди легли бы под гусеницы танков. И вместе с ними я. Но не один - я не герой, а вместе с другими - без раздумий.
Была создана организация земессаргов - защитников страны. Вообще-то и организация айзсаргов как будто была восстановлена, но одно только название испугало кое-кого из эшелонов высшей власти. В каком-то зарубежном издании появилась провокационная фотография группы айзсаргов, и евреи за рубежом подняли шум. Наша верхушка испугалась и вновь созданную организацию самообороны назвали Земессардзе. Мне оно не нравилось. Мой отец был основателем Екабпилсско- го отделения айзсаргов, командир айзсаргов, и я, даже инвалид, вступил бы в нее, если бы организацию назвали Айзсардзе, а не Земессардзе. Оказавшиеся в новом правительстве Латвии, очевидно, плохо знали историю и не могли или не хотели объяснить миру, кто такие были айзсарги и что организация была ликвидирована в 1940 году, сразу же, как вошли русские, что с расстрелом евреев и другими злодеяниями немцев она не была связана. Если какой-то немецкий холуй, собираясь на расстрел, надевал свою или взятую взаймы у кого-то форму айзсарга, не надо обвинять всех подряд и саму организацию. В какую только форму не были одеты преступники! Но больше всего преступлений совершено в мундире русской армии. Потрясающая мягкотелость наших государственных учреждений, наших политиков, дипломатов, незнание ими истории и нежелание ее знать характерны для всей политики восстановленного государства с самых первых дней независимости. Их главный аргумент - «мир нас не поймет». Да, не поймет, если мы будем молчать. Разве не лучше было бы войти в организации мира пусть на несколько лет позже, с высоко поднятой головой, с доказательствами невиновности нашего народа, чем поспешно, но с подобострастно склоненной головой и извинениями за несовершенные преступления? К тому же извиняться перед странами, которые нас когда-то предали.
Нельзя было, конечно, допустить и существования вооруженной организации самообороны в Латвии. Не хватало только, чтобы стали драться между собой по принципу: кто более патриот. Айзсарги вскоре раскололись, как повелось у латышей. Помню, как на юбилейные торжества бывшего командира айзсаргов генерала Праулса (ему исполнилось бы 110 лет) в Пороховую башню явился командир альтернативной организации айзсаргов, совсем молодой парень, в помятом френче, болтающихся брюках да еще с младенцем на руках. Но с двумя большими звездами на погонах! Командир полка? Я молчу!
К сожалению, приходится признать, что вновь созданная организация Земессардзе вначале напоминала организацию айзсаргов после 1934 года, когда, как я уже писал в начале, в ней появилась масса людей, которых прежде всего волновала собственная карьера. И сейчас маленькие и большие звезды на погонах некоторых появились по принципу знакомства, дружбы и партийной принадлежности. Но, очевидно, это тоже было неиз-бежно, и, вероятно, заслуживает даже снисхождения, и не это было самое плохое. Организация самообороны была необходима, свою роль она сыграла, и, хочется надеяться, со временем она очистится от сора, выкристаллизуется. И звезды на погонах и оружие будут носить только те, кто заслужил и этого достоин.
До 1934 года айзсарги надевали форму только в дни государственных праздников и очередных учений и маневров. Только после 15 мая 1934 года некоторые надевали ее, чтобы подчеркнуть свой патриотизм и лояльность Улманису. Но размахивать оружием было не принято, и ни о каких происшествиях или нарушениях слухов не было.
В апреле 1991 года я был в Москве, участвовал в работе конференции всесоюзного «Мемориала». Пришли на Лубянку возложить цветы к камню жертвам культа Сталина. Совсем близко, в ожидании августа и подъемного крана, стоял памятник Дзержинскому. Возле камня нас окружила толпа жаждущих скандала стариков и старушек, почитателей Сталина.
На конференции я познакомился со многими интересными людьми. Большое впечатление произвел на меня историк Юрий Афанасьев, писатель Лев Разгон, Сергей Ковалев, писатель Алесь Адамович. Всех интересовали январские события в Риге, положение в Балтии. Эти настоящие русские интеллигенты признавали вину России перед малыми народами. Я взял с собой папку фотографий о днях баррикад, раздал их и они разъехались по всему Советскому Союзу - в Алма-Ату, Иркутск, Якутск, Владивосток, Петербург. В последний день конференции на станции метро неожиданно встретил Валерию Новодворскую, представился и передал ей несколько фотографий. Знаменитая антикоммунистка была в восторге, сказала, что мы подали прекрасный пример и она надеется и в Москве увидеть баррикады. Прецедент есть. До августовского путча оставалось четыре месяца.
«Мемориал» вручил нам «Архипелаг ГУЛАГ» Александра Солженицына. Мы привезли в Ригу несколько сот экземпляров. Писатель передал «Мемориалу» свою книгу бесплатно. В Риге книга в то время была большой редкостью.
Со своими московскими родственниками я давно не виделся. Дядя Дима умер. Мои кузины Света и Рита жили в разных, диаметрально противоположных концах Москвы, да и относились они ко всему происходящему по-разному. Света, врач-рентгенолог, которая похоронила своего мужа, инженера- электронщика, все новое воспринимала нормально, как и ее сыновья, тоже электронщики. Одного она не могла понять, как мы, отделившись от Союза, сможем обходиться без угля, нефти и всего прочего, чего в России полным-полно, а у нас просто нет.
Отношение Риты и ее мужа, капитана первого ранга, было совсем иным. Они возмущались тем, что у нас «обижают» русских и «насилуют жен омоновцев». Я удивился, пошутил, мол, государство вам семьдесят лет «лапшу на уши вешает», но они по-прежнему верят во всякие россказни и ложь, хотя Андрей несколько раз бывал с инспекционными проверками на базах подводных лодок в Лиепае и Вентспилсе, оба отдыхали на курортах Юрмалы. От Риги они были в восторге, но Андрей сказал, что никогда больше не приедет в Латвию, так как обижен, что русских, которые освободили латышей и столько им дали, теперь называют оккупантами. Ноги его больше в Латвии не будет. Весь наш дальнейший разговор проходил в том же духе, и чем меньше в бутылке оставалось коньяка, тем реплики моего собеседника становились все нетерпимее. Расставаясь, я сказал, что лет через десять и у нас, и у них будет нормальный капитализм. Но я ошибся. Капитализм наступил в том же 1991 году. Насколько «нормальный», это другой вопрос.
Вспоминается забавный случай. Когда с Запада и в Россию стала поступать гуманитарная помощь, посылку получила тетя Вера. Света и Рита с восторгом рассказывали, что все в ней было такое красивое, такое невиданное и вкусное. Очевидно, первыми посылки от «буржуев» стала получать старая «обделенная», приученная к привилегиям номенклатура. Анекдот! Привыкнув в советские времена к спецкормушкам, при смене власти она посчитала само собой разумеющимся сохранить старые привилегии.
Настали дни августовского путча. Были минуты, когда охватывало отчаяние, главным образом из-за неизвестности, скудной информации. В январе на баррикадах нас были тысячи, и на отсутствие информации нельзя было пожаловаться, а в августе все было иначе. Почти единственным источником информации была толпа, собиравшаяся во второй половине дня возле Арсенала и на улице Екаба, где депутат Айвар Бер- кис, взобравшись на бетонные заграждения, окружавшие ВС, сообщал последние, довольно туманные новости. Сообщил, что главари путча арестованы, Язов застрелился. Оказалось, не Язов, а Пуго. Возможно, его застрелили? Я все же думаю, что он застрелился сам. Похоже, он был одним из фанатично, до шизофрении преданных идее коммунизма латышей, каких в России было предостаточно. Пропорционально их, возможно, было даже больше, чем русских. Они-то и были самой большой бедой как латышей, так и русских.
Кто знает, насколько тонкой в те дни была ниточка, на которой повисла судьба нашей страны и нашего народа? Все решали уже не дни - часы и минуты. В январе и мы, и наши баррикады еще имели какое-то значение, в августе же от нас ничего не зависело. Да и ряды защитников в августе заметно поредели.
Это уже были не десятки тысяч. Но может быть, бетонные глыбы, которые без какой-либо команды «сверху», стихийно были установлены перед зданием ВС и на несколько минут задержали омоновцев, сыграли свою роль? Верховный Совет успел принять декларацию о полной независимости Латвии. Русские опоздали. Омоновцы получили приказ отступить. (Этот эпизод, скорее всего, известен немногим очевидцам.) Вряд ли наша независимость устояла, если бы к власти в России не пришел Ельцин. Если бы остался Горбачев, мы, возможно, все еще пребывали бы в дружной семье советских народов. Точно так же первые двадцать лет независимости мы обрели потому, что Керенского в России сменил Ленин. (И кто-то еще осмеливается упрекать латышских стрелков в неверных действиях!) История - цепь случайностей. А может быть, перст Божий?
Во время моей поездки в бывший Вятлаг и Усольлаг в 1995 году (об этом ниже) местные рассказывали, что весной 1991 года по распоряжению Москвы был приведен в порядок и укомплектован персоналом 7-й лагерь (самый крупный лагерь Вятлага, через который в свое время прошли и где сгинули почти все высланные в 1941 году латышские мужчины). Лагерь уже несколько лет пустовал (был «законсервирован»). Ждали новый контингент заключенных. После провала августовского путча лагерь снова забросили, а через несколько лет то ли сборщики ягод, то ли грибники его сожгли. А для чего предназначались заказанные в Белоруссии или где-то еще десятки тысячи наручников?
Бог знает, где бы мы сейчас были, если бы исход в августе был иным. Но, с другой стороны, если бы все так быстро не закончилось, возможно, мы узнали бы много интересного и к власти пришли бы совсем другие люди. Однако это только Догадки. Я не могу понять, как люди, которые издевались над баррикадами, которые выступали против последнего Верховного Совета, против Декларации 4 мая, против регистрации жителей, против V Сейма, против всего - только против, против, против, в конце концов оказались на орбите государственной власти. Если бы мы прислушались к их провокационным демагогическим речам, возможно, и сегодня мы бы не освободились от русских. Не могу понять, что уже в V Сейм были избраны люди, которые не признавали его легитимность и, даже будучи депутатами, отзывались о нем презрительно - «какой-то там сейм». Не могу понять, как эти «ворчливые старики» могли быть избраны на высокие должности в презираемом ими Сейме. И в VII Сейм тоже. Не понимаю доверчивости народа, его короткую память. Впрочем, я многое не могу понять.
Но путч провалился, и «конец - всему делу венец». Запомнились и забавные случаи. В последний день на Домской площади ждали автобусов, которые должны были увезти забаррикадировавшихся в Доме радио десантников. В большом окне над входом видно было солдат, которые, похоже, там же и спали. Кто-то был в нижнем белье и натягивал штаны, кто-то обматывал ноги портянками. Картина страшно развеселила собравшийся на площади народ. В узком проходе, оставленном между бетонными глыбами, у входа стоял солдат в бронежилете, каске, с винтовкой с примкнутым штыком. В толпе, стоявшей у входа в Дом радио, нашлись агрессивно настроенные (можно было и язык распустить - ведь угроза миновала). Солдатик чувствовал себя неловко. Стоявший рядом со мной русский человек стыдил солдата: «Что ты будешь рассказывать людям, когда вернешься в родную деревню? Что, как царский драгун, вышел с винтовкой на невооруженных людей, которые тебе ничего плохого не сделали? Что ты будешь им рассказывать?»
Солдатик молчал. Тут к зданию подкатил автобус и встал вплотную к дверям. Солдаты сели в автобус, и под восторженные крики и свист сотен людей автобус покинул Домскую площадь. Какой-то парень взобрался на сваленные возле входа бетонные глыбы и прикрепил над дверьми красно-бело-красный флаг. «Русские времена» в Латвии закончились. Еще вспоминается эпизод, когда по улице Бривибас в восточном направлении на большой скорости мчались облепленные десантниками бэтээры с развевающимися на них флагами СССР и ЛССР. Доносились крики: «Мы еще вернемся!» Я в это время стоял возле православной церкви Александра Невского. Зашел внутрь и поставил большую свечу у какой-то иконы. Горло перехватило, и икона была как в тумане...
Мне нравится, что в православную церковь можно зайти в любое время, зажечь свечу и молча постоять. Просто постоять. Ни о чем не думая, ничему не молясь.
В начале лета 1991 года ушел из жизни Игорь Носков. Это была громадная потеря для всего движения политрепрессированных. Потеря невосполнимая. Многое в движении репрессированных сложилось бы иначе, будь Игорь жив. С его уходом идея о книжном издательстве осталась нереализованной. Идея о сборе воспоминаний и других материалов тоже была отодвинута на задний план. Теперь самое главное было попасть на политическую орбиту. Попытка создать собственную партию - партию репрессированных - провалилась. Было бы Удивительно, если бы произошло обратное. (Хотелось то ли плакать, то ли смеяться, глядя, как старики пытаются лезть в политику, создавая партии, партийки или еще что-нибудь поглупее.) Ясно было, что единственно верный путь - сотрудничать с какой-то из партий, имевших шанс попасть в Сейм (с правыми или национально ориентированными, естественно). Так и случилось. Объединение репрессированных примкнуло к Крестьянскому союзу и активно участвовало в его предвыборной кампании.
1992 год прошел в атмосфере предвыборной кампании в V Сейм. Я в предвыборной кампании не участвовал. В основном из-за здоровья. Целый год «нянчился» со своей ногой - сначала до операции, затем после. Да и не по душе мне были все эти предвыборные «выкрутасы». Когда избирали последний Верховный Совет, все было предельно ясно - «свои» и противники. А тут все как будто свои (хотя и о них было известно не больше, чем о кандидатах в русские времена), все как будто заодно - за свободную Латвию и за «светлое будущее».
Из предвыборных мероприятий осталось в памяти состояв-шееся в помещении 49-й школы. Представители Объединения репрессированных встречались с кандидатами в депутаты от Крестьянского союза. Оборотная сторона предвыборной борьбы, с которой впоследствии пришлось сталкиваться неоднократно, очевидно, неизбежна, и ко многому пришлось привыкнуть и принять как само собой разумеющееся, но встреча, о которой я пишу, оставила удручающее впечатление. Стыдно было за некоторых сидящих в зале, особенно стыдно было за депутатов, восседавших на сцене. Они чуть ли не рубашку на себе рвали, божились, что никогда не состояли в компартии, и ни у одного из них не хватило смелости сказать, что если кого-то интересует принадлежность кандидата к партии, пусть пороется в архивах. Потенциальные политики отвечали на совершенно идиотские вопросы - был ли комсомольцем и пионером, но вопрос: не был ли «стукачом» - не задал никто. В кристальной непорочности кое-кого из тех, кто задавал кандидатам провокационные вопросы, я не был уверен. Но что большинство из них были кандидатами в члены коммунистической партии, я знал наверняка. И некоторые будущие депутаты были кандидатами в члены компартии, но еще не успели стать ее полноценными членами, поэтому очевидно, слова свои ложью не считали. Да, в хороший переплет попали многие будущие политики. Так им хотелось взобраться повыше, но не пускало не очень-то безупречное прошлое.
Среди кандидатов был некий господин, которому удалось вместо Сибири оказаться на далеком Западе, вдали от опасности и манящего желания вкусить от партийного пирога. Вслушиваясь в его зычный голос, в его уверения, что он никогда не состоял в коммунистической партии, я думал, что с такими голосовыми задатками и с такой речью он, возможно, сделал бы неплохую карьеру в Компартии Латвийской ССР. Да, мало тех, кто может гордиться своим героическим прошлым. Все дружно и подобострастно ползли к сияющим вершинам коммунизма - и партийные, и беспартийные, не веря ни в какие идеалы и ни на что особенно не надеясь. Нашей единственной надеждой было, что когда-нибудь, возможно, трон в Российской империи займет не полный идиот, а хотя бы полуидиот. Ни о чем больше мечтать мы не могли.
Я испытывал чувство стыда за бедных кандидатов, которые врали, в лучшем случае, отмалчивались, лишь бы за них прого-лосовали, лишь бы они попали в Сейм. И лишь один из них при-знался, что состоял в партии. И что произошло? Его освистали? Отказались поддержать? Ничего подобного. Вспомнилась шутка Ильфа и Петрова: «Швейцар у входа требует у всех показать пропуск, а тех, у кого его нет, пропускает просто так». Я думал тогда - сколько из них действительно сумеют принимать решения, что-то делать? О некоторых можно было сказать «ничего парень», не более того. Но разве этого достаточно? Я думал о том, что их будут всего сто человек, тех, кто будет представлять народ, вершить его судьбу. Значит, каждый из них должен быть Личностью. Об этом следует думать каждому будущему депутату. Подумать, не берет ли он на себя слишком большую ответственность. Но думал далеко не каждый. Главное - оказаться на орбите власти, а там «поживем-увидим». Многих, когда-то туда «запущенных», «спустить» оттуда уже невозможно. Они кочуют из Сейма в Сейм, но умнее не становятся, а вот толстеют и наглеют, это да.
Как бы то ни было, кандидаты от Крестьянского союза прошли в V Сейм и председатель Объединения политически репрессированных Гунарс Реснайс, будучи членом КС, тоже стал депутатом Сейма. Поэтому все, что было достигнуто в отношении репрессированных во время Атмоды, произошло во время работы этого созыва парламента. А потом начались интриги, поиски «скелета в шкафу» нашего депутата (якобы прошлая принадлежность к коммунистической партии). Самым большим преступлением, даже предательством было названо объединение фракции КС с фракцией Латвийского пути (ЛП). Некоторые ультрарадикально настроенные функционеры объединения посчитали это неприемлемым. Не приняли во внимание, что только в результате тесного сотрудничества с депутатами ЛП нашему депутату удалось кое-чего добиться во благо репрессированных. В организациях репрессированных стали появляться невесть откуда взявшиеся лица с острыми локтями и лужеными глотками, пролившими, к тому же, «потоки крови в борьбе за свободу». В результате интриг и скандалов от участия в правлении объединения отказались председатель правления и бухгалтер, интеллигентные и уважаемые люди. Небезуспешно начали пилить сук, на котором сидели. (Может быть, это было заранее запланировано?) На следующих выборах голоса репрессированных были отданы мелким, бесперспективным партиям, и в VI Сейм ни один представитель от репрессированных не попал (и в VII Сейм тоже).
Нас осталось так мало, но даже в свои дни траура мы не могли проявить единство! Стыд и позор! Но, может быть, когда эти мои заметки будут читать, все изменится, и мы хотя бы цветы к памятнику Свободы придем возложить в одно время? Дай-то Бог! Ведь в наших силах только одно - почтить память наших погибших товарищей по судьбе. Но разве этого мало? Давно пора понять, что мы ни на что не можем повлиять. Единственное, что мы можем, что мы должны мочь, - это помнить самим и побуждать помнить других о том, какую боль причинили нам и нашему народу.
В 1992 году произошло событие, которое не просто запомнилось, а врезалось в память. В чаще Илеского леса большая группа мужчин - латышей и литовцев - и несколько женщин копали песчаную, перевитую корнями деревьев землю. На краю ямы росли кучки пролежавших в земле сорок три года изъеденных ржавчиной оружейных деталей, патронов, других металлических предметов и серые человеческие кости - кости сожженных в 1949 году заживо латышских и литовских национальных партизан. Здесь с осени 1948 до весны 1949 года скрывался и 17 марта вел свой предсмертный бой один из последних отрядов латышских национальных партизан. Национальные партизаны не сложили оружия в борьбе за свободную Латвию. И теперь, когда мы видим и понимаем, куда привела нас власть коммунистов, каких жертв нам это стоило, сколько утрачено за пятьдесят лет, я иногда думаю, что путь, который избрали несколько тысяч, возможно, был единственным для настоящих мужчин.
Конец сопротивления национальных партизан, гибель последнего отряда - все это происходило между двумя моими ссылками, и я хорошо помню то время, когда партизаны были вне закона и их убивали как диких зверей, без суда и следствия. Любая война трагична и в конечном счете бессмысленна. Но, вероятно, ни одна не пронизана таким трагизмом, как партизанская война. Это война, в которую человека вогнало отчаяние и безвыходность. Но не только. И героизм и надежда. И ненависть и авантюризм тоже. Об этом думал я, стоя у разрытого старого партизанского блиндажа. Невольно подумал и о том, что мои кости тоже могли бы лежать в одном из взорванных, сожженных блиндажей или в лесной чаще, или в трясине. Когда в 1949 году, после шести лет, проведенных в Сибири, и полутора лет, прожитых в беспокойной Латвии, мне грозила вторая ссылка в Сибирь, я стоял перед выбором: лес, поездка за море или Сибирь. Тогда мне недостало смелости, отчаянности, надежды и веры, чтобы скрыться в лесу или рискнуть отправиться через море. Я выбрал тюрьму и Сибирь. И остался жив. И вернулся в Латвию. А если бы я остался, ушел в леса? Возможно, жизнь не одного чекиста была бы на моей совести. Можно было бы меня за это судить? Как-то в Сибири в расставленный мною на горностая капкан попалась белка, и должен признаться, что никогда я не видел зверя страшнее этого мирного, испытывавшего ужас смерти существа.
Со мной рядом на краю ямы стоял поэт Модрис Зихманис, один из четырех оставшихся в живых героев Илеского блиндажа. Позади у него были шестнадцать проведенных в тюрьме и лагерях лет. В руке Модрис держал найденный в яме свой собственный проржавевший браунинг.
Одним из первых важных событий этих лет и одним из важнейших в моей жизни было возвращение мне в 1992 году собственности моих «предков» в Екабпилсе. Чувство хозяина у меня, как, очевидно, у большинства советских граждан и особенно у репрессированных коммунистической властью, за пятьдесят лет было если не совершенно вытравлено, то сильно подавлено. И в голову не приходило завести огород, построить дом, большой ли, маленький. Дед выбивался из сил, копил деньги и построил дом, отец после войны его восстановил, а в 1940 году дом отобрали. Отобрали и возделанный клочок земли с посаженными нами яблоньками и кустами. А сейчас начинать что-то подобное мне? Возможно, определенную роль сыграли и годы, проведенные в геологических экспедициях в Сибири, вечное бродяжничество. Однако, как ни странно, чувство хозяина, инстинкт собственника и страстное желание приступить к делу немедленно во мне возродилось сразу же по возвращению собственности. Желание было, но знаний и опыта никаких. Не знал, с какого конца начинать. Я был не один такой. С подобной проблемой столкнулось большинство новых старых хозяев. Национализированные дома в течение пятидесяти лет безжалостно эксплуатировались, редко кто из советских владельцев жилого фонда, т.е. город или государство, старались содержать их в порядке. «Добрая» советская власть сдавала жилье в аренду почти даром, а о ремонте, сохранности домов не задумывалась.
Вероятно, все в жизни происходит в свое время, как и должно происходить. Если бы
я свой дом вернул, скажем, лет на пять позже, мне проще было бы отказаться, чем
взяться за его реставрацию. Непонятно, откуда родилось желание, энергия, и,
главное, чувство долга. И не только по отношению к памяти деда и отца. Внезапно
я понял, что обязан привести в порядок принадлежащую мне собственность.
Возможно, во мне проснулось подавленная, давно утраченная тяга латышского
крестьянина иметь «свой уголок земли»? Не у всех это чувство развито одинаково.
Во мне оно лишь теплилось, как тлеющий уголек. Но были люди, которых можно было
считать образцом усердия и трудолюбия, присущих настоящему латышскому
крестьянину.
В 1941 году вместе с нами в Куличках оказалась и высланная из Екабпилса госпожа
Круминя с тремя сыновьями. Эвалду, старшему, было лет одиннадцать, Оскару
девять, Улдис вообще был еще «головастик». Когда через год меня увезли на север,
Круминьши остались в Куличках и в Латвию вернулись только в шестидесятых годах.
Какие трудности пришлось пережить женщине с тремя детьми в ссылке, вряд ли
сможет понять это человек, не испытавший на себе Сибири. «Вытянуть» даже одного
для женщины было подвигом в стране, где ребенок «врага народа» был хуже скотины.
(Все трое топили тот самый локомобиль, который когда-то топил и я, и дрова
заготавливали топором.) Братья закончили в Куличках школу, потом курсы шоферов,
Эвалд и Оскар взяли в жены учительниц, построили себе дома, возле каждого на
столбе укрепили генератор с самодельным пропеллером, и все село сбегалось
смотреть на зажженные латышскими парнями «лампочки Ильича». Это было первое
электричество в Куличках. Уезжая, они почти даром оставили свои дома колхозу.
Полученных денег едва хватило на дорогу. Как их приняли в Советской Латвии,
повторять излишне. Совершенно иным было отношение к бывшим ссыльным латышам в
России. Когда Эвалд, уже в восьмидесятые годы, ездил погостить в Кулички, все
село посчитало своим долгом встретить уважаемого латыша честь по чести. Шла
уборка урожая. И все-таки председатель колхоза дал Эвалду «бобик» и попросил
поехать в дальнюю бригаду. Сказал, пусть лучше пьет одна бригада, чем весь
колхоз...
С уже известными всем трудностями братья получили квартиры в Крустпилсе, потом построили дачи на озере Нами- кис. Смастерили из металлолома трактор, к которому цепляли плуг и другую прицепную оснастку, которую тоже смастерили сами. В свободное от работы время они и детей нарожали и выучили. Когда началась денационализация, братьям вернули приобретенную еще в царские времена их дедом землю. В середине девяностых Эвалд умер, не успев, как мы договаривались, поехать со мной в Вятлаг, где остался и его отец. От дома, построенного дедом, не осталось и следа, вместо него высилась телячья ферма. Не выдержав стремительно прыжка из социализма в капитализм, телята передохли. Оскар купил пустую ферму, привел ее в порядок, установил выброшенную на свалку и отреставрированную им пилораму. Заказов хватало, пришлось даже нанимать рабочих. Приобрел грузовик, автопогрузчики, трактор. Когда строил дачу, случайно набрел на рой диких пчел, и сейчас у него несколько десятков ульев. Один рой поселился даже в принесенном из лесу старинном улье - в дубовой колоде.
Как назвать людей, которые все начинают с нуля, причем не один раз? Которые всего добились и стали людьми зажиточными, только благодаря собственным рукам и голове? В первые послереволюционные годы их называли очень метко - «недорезанный буржуй». Что с ними делать? С точки зрения коммунистической идеологии - уничтожать. С точки зрения левых социал-демократов (к которым всегда принадлежали латышские социки) - большую часть заработанного ими отнять в виде налогов и распределить между теми, у кого нет ничего. В данном случае, отдать тем, кто недалеко от пилорамы Круминьшей продолжает жить в многоквартирных домах, построенных когда-то колхозом или совхозом, получает пособие по безработице, пьет не пересыхая, а работать не заставишь даже из-под палки.
Таких «буржуев», когда вошли русские, в Латвии было полным-полно. Они, а не
прославляемый коммунистами пролетариат, были подлинным основным классом
латышского народа.
Еще в глубоко советские времена, в шестидесятые и семи-десятые годы, многие мои
друзья и коллеги по работе стали приобретать земельные участки, что-то сажали,
выращивали, сооружали домишки. Но я ни о чем таком и не думал. Смеялся - кому
они все это оставят? Один продаст, другой пропьет, третий вообще бросит.
(Нередко так и случалось.) Где гарантия, что снова не накатит организованная
если не коммунистами, то нашими доморощенными социал-демократами
национализация? Полушутя, полусерьезно я говорил - если и появится у меня
какая-то собственность, лучше пропью, но детям не оставлю, потому что человек
по-настоящему ценит только то, что сделал сам. Отец не оставил мне ничего, не
мог этого сделать, и я не пропал, зачем же мне дочери что-то оставлять? Тогда
никто и думал о возвращении собственности, да и у меня ничего не было, даже если
бы я и хотел что-то оставить. И снова я подумал: единственное, что каждый должен
оставить своим потомкам, - это добрая слава, чтобы детям не было стыдно за своих
предков, как сегодня кое-кому из уважаемых людей. Я уже упоминал, что в 1947
году я смог возвратиться в Латвию только потому, что о моем отце осталась добрая
память в сердцах жителей Екабпилса.
Время это было интересное: одной ногой я был в Риге, другой - в Екабпилсе. Что-то ремонтировал, принимал какие-то решения, платил рабочим, которые, не успев начать ремонт, запили и исчезли. Платил дворнику, вместо которого не однажды мне самому приходилось посыпать песком обледеневший тротуар, чтобы не пришлось поскользнувшемуся по пьянке платить «алименты». Электропроводка в доме была в таком состоянии, что волосы вставали дыбом. Десятидюймовая труба сухого туалета (пардон!) была забита по самую мансарду, а найти «шин- дера» было попросту невозможно. Стены дома были толстые и могли простоять еще лет сто, а мансарда деревянная, начал было ремонтировать один угол, но бросил - все рушилось под руками. Не знаю, чем бы все кончилось, если бы дочь с мужем не решили перебраться в Екабпилс. Это была «моя голубая мечта» с первых же дней, как только я перешагнул порог своего дома - как хозяин. Это было мое горячее, но глубоко спрятанное желание, потому что я понимал, что сам вряд ли сумею восстановить дом полностью. И вот за это взялось молодое поколение. И «все сбылось»...
Родной город встретил меня приветливо. Отношение со стороны администрации и чиновников было самое благожелательное. Старых знакомых, правда, можно было пересчитать на пальцах одной руки, зато появились новые. На протяжении всего лета 1992 года в газете «Екабпилс Вестнесис» публиковались фрагменты моих воспоминаний, и я радовался, что произошло это в моем родном городе. И впоследствии иногда публиковался и в местных газетах, и в центральных. Правда, печататься становилось все сложнее, появилась масса журналистов, все хотели есть, поэтому кое-кто на каждого из «простых смертных», изъявившего желание напечататься, смотрел как на покусившегося на его кусок хлеба. Чуть не каждый журналист считал себя умнее и позволял себе вычеркивать, что он считал нужным, и вообще обращаться с моим текстом, как ему вздумается. (Не хочу обидеть всех журналистов.) Главные редакторы с каждым годом тоже становились все неприступнее.
Все, возвратившие собственность своих предков, сталкивались с меньшими или большими трудностями. Зачастую они оказывались непреодолимыми, и многим пришлось продать обретенную собственность за полцены или вообще от нее отказаться. Повезло тому, в чьем доме был магазинчик или учреждение, но если были только жильцы, владелец дома нередко вынужден был доплачивать из своей зарплаты или пенсии за коммунальные услуги. Многие отнеслись к денационализации с неприятием, завистью, в том числе и самоуправления. Во многих самоуправлениях руководящие должности занимали люди из советской номенклатуры. Находились и журналисты, которые запускали «утку» о злодее-домовладельце. Но мне и тут повезло. Возвращение собственности не потребовало от меня преодоления каких-то препятствий, меня никто не ругал и хозяин, в чьем доме я живу, не доставлял мне никаких неприятностей.
В политику я не лез. Несколько раз был на волосок от вступления в ДННЛ, но каждый раз в этой организации происходили какие-то несуразные вещи, непонятное, неприемлемое для меня: то кто-то из партийных вождей «номер отмочит», то постыдное «лобызание» с неизвестно откуда взявшимся авантюристом из Германии, и еще, и еще. Я не видел в этой партии никого, кто бы в первую очередь думал о народе и только потом о себе, о своей карьере, не видел достаточно интеллектуального, смелого и твердого политика. (Возможно, эти качества трудно объединить? Слишком высоки требования?) Да и прошлое кое у кого было такое, что лучше бы стоял в сторонке, а не лез в политику. Венцом всему стало объединение ДННЛ с партией «Тевземей ун Бривибай» (ТБ, «Отечеству и Свободе»). Фактически это была самоликвидация ДННЛ. К власти в объединении, ставшем партией, пришли люди, которые ничего не сделали, а только произносили популистские речи. К тому же мне чужд крайний радикализм, возможно, потому, что по натуре я большой оптимист. Например, я не могу всерьез воспринимать вопли радикалов о грозящей латышскому народу гибели, если все будет делаться не так, как считают правильным они. Эти «брюзжащие старики», эти роющие копытом землю юноши, несколько дамочек с «горящим взглядом» меня то веселили, то внушали страх. Для меня была неприемлемой ненависть, звучавшая в их речах. К тому же мало кто из них пострадал от советской власти, они с нею мирно уживались, заканчивали вузы, даже защищали диссертации. А вдруг такая ненависть к своим вчерашним кормильцам! Радикализм, очевидно, необходим обществу, как правый, так и левый, как некая грань, но радикалы у власти - штука опасная. Правда всегда где-то посередине. Но главное, что меня удерживало от вступления в какую-нибудь партию (на мой взгляд, в то время это могли быть ДННЛ или КС), было убеждение: достаточно того, что я являюсь членом Народного Фронта. К тому же я был занят работой в Клубе политически репрессированных. Был я также руководителем группы поддержки НФ в Рижском клубе. Да и здоровье часто подводило. И даже очень.
Однако произошло так, что я, не проявив со своей стороны ни малейшей инициативы,
на очень короткое время был втянут в политику, оказался на «орбите власти». Ну,
не на самой орбите, но очень близко. Весной 1995 года один из депутатов V Сейма
предложил мне поработать его помощником на полставки. Это было интересно с той
точки зрения, что в жизни надо попробовать все. Во время своей деятельности я
довольно редко пользовался возможностью наблюдать пленарные заседания.
Присутствовал на заседаниях я только в том случае, если обсуждался вопрос,
касающийся репрессированных, или просто меня интересовавший. А болтаться в Сейме
без особой нужды, как делал это кое-кто из не очень стеснительных помощников
депутатов или боссы мелких партий или группировок, я считал излишним и
неприличным. Но и то, что довелось увидеть в редкие и краткие посещения Сейма,
наводило на размышления и требовало выводов. Первое, что меня поразило,
насколько часто крайне левые и крайне правые были единодушны. Когда предстояло
голосование по вопросу, требующему ответственности или вообще сложному, то и
те, и другие незаметно по одному покидали зал и также незаметно возвращались,
когда вопрос снимался с повестки дня из-за отсутствия кворума. Надо сказать, что
после подобных неофициальных, а потом и официальных перерывов депутаты
возвращались в зал в более приподнятом настроении (таковые были абсолютно среди
всех депутатов). Невольно задумаешься: стоит ли продавать алкоголь в кафе Сейма
вообще. Как вероятно понял мой читатель, я отнюдь не враг алкоголя и не был им
никогда. И в кафе Сейма не раз с чашечкой кофе заказывал и «5та11 с1гор» виски.
Но я мог себе это позволить, ибо не должен был выходить на трибуну или принимать
важный закон. (Истины ради надо сказать, что мой шеф алкоголь совершенно не
употреблял, так как только что перенес тяжелую болезнь.) Согласитесь, было бы
странно, если бы в больнице рядом с операционной находилось кафе, где хирург
перед операцией мог бы «поправиться», или водитель троллейбуса и автобуса на
каждой остановке прикладывался бы к прихваченной из дома фляжке. Идиотизм?
Безусловно. Значит, вырезать аппендицит или вести транспортное средство подшофе
нельзя, а руководить государством, принимать важные решения можно? Так
продолжалось и в шестом, и в седьмом Сейме. Если ты только что дружески выпивал
с оппонентом, да еще за его счет, как-то неудобно голосовать против. Возможно, я
сгущаю краски? Сгущаю. Но надо быть последним простаком, чтобы это отрицать.
Каков народ, таково и правительство? Каков народ, таков и парламент? Возможно.
Но должно ли быть так? Если мы, выбирая сто представителей, не в состоянии
выбрать самых лучших из лучших, умнейших из умных, если в Сейм попадают
личности, которые не могут высидеть до конца дня, не подкрепившись, если в Сейм
попадают люди глупые, не умеющие связать двух слов, одно появление которых на
трибуне вызывает смех и веселье, или те, кто еще совсем недавно выступал против
независимости страны или даже предпринимал какие-то действия против нее, то не
имело смысла даже идти к урнам. С таким же успехом можно было, стоя у дверей
Сейма, затаскивать каждого десятого или сотого прохожего, пока не наберется
сотня. И это тоже будут народные избранники. (Простите за преувеличение!)
Если на процесс развития высших органов государственной власти спроецировать теорию эволюции Дарвина, то каждый следующий парламент должен быть умнее, интеллигентнее предыдущего. Но, наблюдая за работой парламентариев, с со-жалением приходится признать, что пятый созыв был хуже по-следнего Верховного Совета, шестой намного хуже пятого (пар-ламент, конечно, не колбаса, и, возможно, слова «хуже», «лучше» не очень подходят в качестве сравнения). Я абсолютно убежден, что ни V, ни VI Сейм не смогли бы принять таких основополагающих решений, какие пришлось принять Верховному Совету в мае 1990-го и в августе 1991 года. Как ни одна существующая сегодня партия не была бы способна совершить то, что в свое время совершил Народный Фронт. Он сплотил народ. Нынешние партии народ раскалывают. В лучшем случае, ничего не делают для того, чтобы народ объединить.
Одной из причин, которая побудила меня дать согласие покрутиться какое-то время в высших сферах, была уже вызревшая идея организовать экспедицию в Вятлаг. Надеялся, что заручусь поддержкой кого-нибудь из политиков.
Еще в конце восьмидесятых годов я начал собирать ин-формацию о Вятлаге. Списался с клубом туристов Кировской области. Мы с Зигисом давно задумали маршрут по верхнему течению Камы и Вятки, где должны были находиться остатки бывших лагерей. Но туристы из Кирова писали мне, что поход «дикарем» по этим местам может быть очень опасен, так как на севере Кировской и Пермской областей по-прежнему существуют лагеря, откуда заключенные нередко бегут, и понятно, что встреча с ними не сулит ничего хорошего. Туристы писали, что необходимо получить специальное разрешение и вряд ли нам, балтийцам, его выдадут. Объясняли они это тем, что после ликвидации многих лагерей во времена Хрущева большинство обслуживающего персонала осели здесь же, в колхозах и совхозах. Они и создают атмосферу в регионе. Писали, что сначала они сами постараются побывать в интересующих нас районах, а потом проинформируют меня о том, что увидели и нашли.
В конце 1990 года сотрудница Музея литературы и истории искусства им. Райниса Гайда Ябловска познакомила меня с двумя приехавшими в Ригу работниками культуры Кировской области - директором краеведческого музея и художником. Они знали, что в Вятской губернии в царские времена находились ссыльные Райнис и Аспазия, что во время войны жили здесь Андрей Упит, Анна Саксе и еще кто-то из Советской Латвии, что Киров называют второй столицей Советской Латвии, но почти ничего не знали о том, что происходило когда-то и что происходит сейчас на севере их области. Они знали, что мы добиваемся независимости, и полушутя, полусерьезно сказали, что, возможно, когда мы отделимся, наши поездки в Россию станут доступнее, потому что всем известно укоренившееся в русском народе низкопоклонство перед иностранцами. Это, конечно, была шутка, но доля правды в ней присутствовала, в чем мы впоследствии и убедились. Идея независимости в то время не просто витала в воздухе, о ней думали не только латыши, но и русская интеллигенция, и, возможно, задумалась она гораздо раньше, чем мы.
В советское время в Кирове и Слободском, местах ссылки Райниса, побывала не одна делегация деятелей культуры Латвийской ССР. Последняя поездка состоялась уже в начале Атмоды, если не ошибаюсь, в 1987 году. В это время был установлен памятный камень Райнису и Аспазии. Я тогда попытался напечатать в «Литературе ун Максле» реплику, что не мешало бы делегации поинтересоваться и теми тысячами граждан Латвии, которые были уничтожены в знаменитом Вятлаге. Материал не напечатали. Только один довольно популярный поэт произнес несколько тихих, скромных слов по этому поводу.
С 1990 года я был знаком с историком Айнаром Бамбалсом. Он был одним из
немногих историков, который в самом начале Атмоды начал интересоваться и
собирать материалы о депортациях, особенно о судьбах офицеров Латвийской армии
в 1941 году и позже. В 1990 году мы параллельно готовили экспедиции в Сибирь - я
в Игарку, Айнар - на озеро Лама недалеко от Норильска. Позже выяснилось, что мы
без какой-либо предварительной договоренности поставили кресты в один и тот же
день и чуть ли не в один и тот же час. Я - на берегу Енисея, погибшим в
Агапитово женщинам и детям, Айнар - на берегу озера Лама погибшим офицерам
Латвийской, Литовской и Эстонской армий. Айнар входил в состав экспедиции,
разыскивавшей место захоронения Карлиса Улманиса в южных республиках.
Впоследствии, изредка встречаясь, мы обсуждали варианты будущих маршрутов. Айнар
собирался побывать в Астрахани, где в 1941 году были расстреляны несколько сот
латвийских офицеров, среди них писатель Александр Грине. Но в конце концов
предпочел предложенную мной поездку в Вятлаг, тем более потому, что в его
распоряжении оказалась информация о содержавшихся и уничтоженных там офицерах
Латвийской армии, а главной темой его исследований и была судьба Латвийской
армии. Айнар предложил после Вятлага отправиться на восток, в бывший центр
Усольлага Соликамск, где также были уничтожены многие офицеры и государственные
деятели. Я был рад, что нашел нового, энергичного попутчика, к тому же с
некоторым опытом поездок в новых условиях - по странам, разделенным границей.
В поездку по бывшим местам заключения уже нельзя было отправляться на авось, как в обычный туристский поход в со-ветские времена, ведь если раньше тебя не пускали куда-то, можно было просто изменить маршрут, в запасе всегда был резервный вариант. В нашем случае другого варианта не было. Наша цель и план были следующие: добраться до Кирова, собрать всю возможную информацию о находившихся в тюрьме и расстрелянных гражданах Латвии, затем в поселок Лесной, расположенный на территории бывшего Вятлага, вытесать и установить большой деревянный крест, затем в Пермь и оттуда в Соликамск, на территорию бывшего Усольлага, где поставить такой же крест. Во время поездки собрать всю доступную информацию, установить контакты с местными учреждениями власти и жителями. Следовало считаться с солидными расходами. Во-первых, мы уже были иностранцы, а, как известно, для России все иностранцы миллионеры. В гостиницах цены для иностранцев были на порядок выше, чем для местных. Правда, мы планировали взять с собой палатки и спальники, но не были уверены в том, что сможем ими воспользоваться. Так и случилось. Россия всегда была непрогнозируемой страной, тем более в смутные времена. Так что резервная сумма должна была помочь нам не оказаться на мели, как герою одного из рассказов Чехова, немецкому горному инженеру, который, после того, как обанкротился русский помещик, нанявший его в Германии руководить своей шахтой, долго мотался по России без средств и знания языка.
Денег нынешняя экспедиция потребовала намного больше, чем прежние туристские походы по Советскому Союзу, когда в нашем распоряжении была рыба, а зачастую и огороды и фруктовые сады. Статус иностранцев налагал вето на любой шаг «влево». К тому же ехали мы не на экскурсию, а приводить в порядок памятные места. Мы решили сделать бронзовые таблички и вмуровать их в подножие крестов. Необходимо было считаться с тем, что придется платить за материалы, транспорт, подъемники. Подумать надо было и о водке, которая в России всегда была ходовой «валютой». Не водка сама по себе, а винные пары, дружеская атмосфера, которая возникает вокруг нее и так ценится при заключении сделок в высших кругах, что уж говорить о простых народных массах.
Я был не единственный, кто давно подумывал о поездке в Вятлаг. Не однажды возникал разговор об этом с родственниками погибших в лагере, но ни место, ни время не подходило для поездки большой группой. На сей раз это должна была быть разведка. Информация о тех местах была чрезвычайно скупой. Белое пятно было скорее черным. Еще при Горбачеве в газете «Аргументы и факты» была напечатана карта Советского Союза, на которой цветом разной насыщенности было схематично отображено отношение населения к перестройке. Кировская область представляла собой черное пятно, Пермская на один тон светлее.
Группа наша состояла из пяти человек - Айнар Бамбалс, почти постоянные мои спутники Зигурд Шлице и Ингвар Лейтис, Алфред Пушкевицс, отец которого тоже погиб в Вятлаге, и автор этих строк. Вместе с нами собиралась ехать и атташе нашего посольства в Москве Лаума Власова, и это было бы замечательно, но за несколько дней до поездки она сломала ногу.
Много ли в Латвии найдется людей, которым что-то говорили бы названия «Вятлаг», «Усольлаг»? Возможно, лишь те, чья семейная трагедия связана с этими названиями. А что об этих местах знает народ, молодежь? И хочет ли вообще сегодня кто-то об этом знать? Какое дело нам до того, что произошло в далеком прошлом и в далекой стране? Да и произошло ли? А если да, то действительно так ли было страшно, как рассказывают оставшиеся в живых старики? Зачем вспоминать? Ведь такое не повторится. Не повторится? А где гарантия? Единственная гарантия - никогда не забывать о прошлом. Помнить об этом всегда, и через десять, сто, тысячу лет, как евреи помнят историю своего народа. Помнят и никому ничего не прощают. И через тысячу лет. Не прощают? Нет! Простить можно (мертвому или признавшему свою вину), но забыть - никогда!
Обо всем этом думалось, когда мы готовились к поездке. В это время испытали мы и радость от встреч с отзывчивыми людьми, но приходилось и разочаровываться. Разным было отношение к нашему прошлому, к его жертвам.
Мы надеялись, главным образом, на материальную поддержку банков, богатых фирм и политических партий. Сбор средств проводился от имени Объединения политически репрессированных через посредничество Культурного фонда.
Не слишком этично считать деньги в чужом кармане, но, мне кажется, о каких-то этических нормах говорить в отношении нынешних банков излишне. Я тогда сам обошел все рижские банки. Почти везде был принят на уровне президента или вице-президента (с одним из них я когда-то бывал в Карпатах), но результат был нулевой. Только «Саулес банка» выделил нам небольшую сумму. 1995 год был не самым удачным, чтобы «грабить» банки. Часть этих кредитных учреждений уже горела «синим пламенем», другие были на грани, но не все. Каких-то сто латов их бы не довели до банкротства, и собрание акционеров (на что ссылались банкиры) из-за нескольких латов вряд ли надо было созывать. Незадолго до нашей поездки по телевидению показали сюжет о спуске наших парашютистов на Северный полюс с латвийскими флагами. Спонсором этого мероприятия выступил банк «Парекс». Я горжусь тем, что красно-бело-красный флаг Латвии развевается на Северном полюсе, честь и хвала за это банку и его руководителям; одному из них я лично вручил письмо с подробным изложением цели нашего путешествия, коснулся и истории, но результата не дождался. Я совершенно уверен, что для нашей экспедиции хватило бы, возможно, сотой доли от той суммы, которая была потрачена на грандиозное мероприятие на полюсе. Очень надеялись мы на Геркенса и на других молодых бизнесменов, но напрасно. Не могли встретиться с Крисбергсом, оказалось, что он в то время уже бегал от «алиментов» со всем своим «Аусеклитисом». Единственный, кто пошел нам навстречу, был хозяин «Лидо» Гунар Кирсонс.
Да что банки и фирмы! Мы были по-настоящему потрясены и огорчены отношением партий к нашей экспедиции. Обращались с просьбой ко всем партиям, за исключением левых, партий Каулса и Зигериста, что мы считали ниже своего достоинства. Самую большую помощь оказал нам Крестьянский союз. Когда мы получили от его руководства тысячу латов, исчезли все сомнения в благополучном исходе нашей экспедиции, по крайней мере, ее первого этапа - Вятлага. ДННЛ тоже проявила отзывчивость, за что в большой степени следует поблагодарить лично Анну Сейле.
Серьезную помощь оказал Народный Фронт. По радио и телевидению НФ сообщил людям о готовящейся экспедиции с просьбой жертвовать средства. В помещении НФ на улице Вецпилсетас стояла урна для пожертвований. Только утром 7 августа, когда вытряхнули урну, - а вечером мы должны были сесть на поезд, - у нас появилась уверенность, что мы выполним все запланированное, то есть сделаем все и в Вятлаге, и в Усольлаге. Из всех политиков только Талав с Юндзис, в то время председатель НФ, пришел нас проводить.
«Самая патриотичная» и «самая национальная» партия - ТБ - над нами чуть ли не
издевалась. Но я и не особенно разочаровался, так как никогда не верил в
громкий патриотизм этой партии. К сожалению, выбитые на памятнике Свободы и
присвоенные партией в качестве собственного названия слова - Отечеству и
Свободе - определенную часть народа, очевидно, умственно парализовали. Главное -
слова. Все остальное уже не так важно. Вожди этой партии заполучили голоса
избирателей благодаря пламенным речам о преступлениях коммунистов, о том, что
нельзя забывать причиненные народу страдания, нельзя забывать о жертвах
террора. Но это были только слова. В тот момент, когда появилась возможность
хоть что-то сделать во имя памяти ими же упоминаемых жертв, сказанные с трибуны
слова были забыты.
Огорчил и отказ христианских демократов. Ведь мы ехали в Россию, чтобы
установить там символы христианства - кресты. Но что это за партия! Собрались
несколько человек и назвали себя популярным на западе словосочетанием
«христианские демократы», чтобы не ломать голову над названием. Идеология?
Какая там идеология! Лишь бы красиво звучало. К сожалению, самое звучное и самое
перспективное название - Отечеству и Свободе - поспешила присвоить себе группка,
в которой лидировали отколовшиеся от ДННЛ и функционеры Народного конгресса, как
обычно, по принципу - партий мало, а командовать хочется всем. Очень скоро
кое-кому из одиозных личностей из-за своего прошлого пришлось отказаться от
руководства партией и проявлять свою активность на вторых и третьих ролях.
(Одного из них мне выпала честь вытащить из бушующих волн Черемуша за воротник
спасательного жилета).
Надеялись получить хоть небольшую помощь от Латвийского пути, этой группы людей, одержимых снобизмом и нарциссизмом, соблазненные их показным умом и интеллигентностью, очевидным благополучием. Напрасно надеялись.
Руководство Саймниекса тяжко вздыхало - их отцы тоже были репрессированы, но денег у них нет, все съедает избирательная кампания. (Если нет денег, нечего лезть в политику. В политике нет опаснее нищего, его легко купить.)
Я уверен, что партии Юрканса и Лавини нам бы не отказали, но обратиться к ним мы не могли по политическим соображениям. С левыми у нас не могло быть ничего общего.
7 августа 1995 года стартовала экспедиция «Вятлаг-Усольлаг'95». На перроне осталась группа провожающих. Мы отправлялись в путь, чтобы увековечить память их близких, отцов и дедов. Мы везли на восток землю, цветы и слезы Латвии. Прошло более пятидесяти лет, но есть раны, которые не заживают.
Москва порадовала нас хорошей погодой и радушной встречей в посольстве Латвии. Оно напоминало оазис в пустыне. Почувствовать это сполна можно, лишь поездив немного по России. Здесь ты чувствуешь себя как истинный гражданин своей страны. (Я пишу в форме настоящего времени, потому что убежден, что так это и сегодня, так будет и через много лет.) Когда посол в своем приветственном слове сказал - где бы мы в России не находились, что бы с нами не случилось, мы всегда можем рассчитывать на поддержку и защиту представительства своей страны, - мы почувствовали, что это именно так. Во время поездки мы не забывали, что представляем в России свою страну, и по нашему поведению в определенной степени будут судить и о нашем народе, и о стране.
Трогательное впечатление оставила миниатюрная церковь в саду посольства, возведенная по проекту архитектора Дрипе, сам сад и царившая в посольстве атмосфера.
Несколько часов мы посвятили Москве. Милая госпожа Петере повела нас осматривать последнюю московскую новинку - комплекс Победы на Поклонной горе. Грандиозный монстр, возведенный по проекту страдающего, очевидно, манией величия грузинского архитектора Церетели, не произвел на меня никакого впечатления. Хотя, возможно, такое же, как танцующие вокруг фонтана огромные жестяные солдаты на нашей «площади висельников» в Пардаугаве. Типичный памятник победы. В очередной раз «весь пар ушел в свисток». Памятник в честь «Пирровой победы». Разве недостаточно было белой церкви, возведенной там же, на горе? Сколько полуразвалившихся церквей можно было восстановить за деньги, потраченные на победный свисток! Может быть, сейчас русскому народу ничто так не нужно, как церкви, возрождение религии. И не гордиться надо сейчас победой, а чтить память напрасно убиенных и молить Бога о прощении грехов дедов и отцов, за то, что причинили они другим народам. Вместо этого: «Урра! Победа!»
Вошли в церковь, каждый зажег по две свечи. Одну - в память о погибших, другую - за благополучный исход нашего путешествия - у иконы св.Николая, заступника всех путешественников. Здесь же, у подножия памятника, велась торговля лифчиками, презервативами, мороженым, горячими сосисками, пирожками и прочей снедью. Неужели нельзя поесть в другом месте?
Проехали мимо строящегося храма Христа Спасителя. Очередной «свисток»!
На следующее утро мы уже были в Кирове. Город по- прежнему носит имя партийного функционера Кирова, а не старое дореволюционное название - Вятка. Слово «Вятка» надлежит забыть, так же, как и то, что жили здесь когда-то вятичи, частично уничтоженные советской властью, частично ассимилировавшиеся. На площади стоит памятник Кирову, одному из палачей южных народов. Стоит и «маленький черненький»-Ленин.
Прямо с вокзала направились в туристский клуб, хотя предварительной договоренности не было, разве что пере-писывались несколько лет назад. Но я был уверен, что туристы нам помогут. И не ошибся. Нас приняли как старых друзей. И я испытал чувство гордости, что принадлежу к веселому, дружному, «диссидентскому» и интернациональному в лучшем смысле этого слова племени. В наше распоряжение предоставили помещение, заваленное лодками, палатками, веревками и прочим туристским инвентарем.
В резиденции губернатора, куда мы с Айваром тотчас же на-правились, нас принял советник губернатора по национальным вопросам - «министр иностранных дел» губернского масштаба. Такая штатная единица существует при администрации каждой области России. Сначала мы попали под холодный душ - у него о нас нет никаких сведений и распоряжений из Министерства иностранных дел России. И вообще - когда и какие латыши здесь были? Советник делал вид, что «с неба свалился», достал из ящика стола толстую папку и стал перелистывать ее содержимое. Из каких только краев не приезжали сюда искать своих родственников - оказавшихся в плену немцев, австрийцев, итальянцев, венгров и даже японцев! В болотах Вятлага лежат тысячи людей разных национальностей. Советник показал нам даже проект мемориала, разработанный кокой-то иностранной делегацией. Но латыши? Он о них ничего не знает. Мы вручили ему список латышей, погибших в Вятлаге. Всего около сорока фамилий, в основном расстрелянных кавалеров военного ордена Лачплесиса. Потом состоялось несколько телефонных разговоров. И разговор принял совсем другое направление. «Где же вы так долго были? Мы вас давно ждем!» (Мы поняли, что наше появление, очевидно, несколько опередило сообщение о нашем прибытии. Оно, скорее всего, поступило во время нашей аудиенции.) Все завершилось звонком в областное отделение внутренних дел и распоряжением обеспечить нас необходимой информацией и помощью. Советник проводил нас до вызванного им лимузина. Мы почувствовали себя иностранными дипломатами. Вспомнилась рижская встреча с деятелями культуры из Кирова в начале Атмоды.
Вечер провели в интересной беседе с журналистами не-зависимой газеты, с которыми нас познакомили руководители туристского клуба. Нелегкая жизнь была у прогрессивных журналистов в этой провинции, одной из самых темных в России, но они были полны оптимизма. Они еще пребывали в начальной стадии эйфории, от которой наши журналисты уже избавились. Между прочим, мы узнали, что знакомый нам господин советник последние десять лет занимал должность начальника областной конторы контрразведки. Былотаки ощущение, что наш собеседник - чекист.
В Кирове мне предстояло уладить еще одно дело. Так как мы собирались и здесь поставить крест, посчитали своей обязанностью проинформировать об этом и церковное руководство области. Я привез с собой письмо митрополита православной церкви Латвии Александра митрополиту Кировской области. Я рассказал об этом журналистам, спросил, как мне найти главу Церкви и поинтересовался, каково отношение местной администрации к церкви и ее служителям. Журналисты сказали, что их митрополит и с администрацией области, и с органами внутренних дел живет дружно еще с советских времен, когда был членом компартии. И сейчас, как когда-то, ездит с ними на охоту, пьет водку и все прочее. Зато церковь не испытывает никаких финансовых проблем. В этом я убедился на следующий день, когда в поисках митрополита обошел многие церкви и монастыри, где полным ходом велись реставрационные работы.
Митрополита я нашел в его резиденции. Долго звонил, наконец, в трехметровом, из толстых досок сколоченном заборе приоткрылась калитка. Выглянул небольшого росточка монах с огромной собакой на поводке. Я протянул письмо и попросил принять меня. Снова пришлось долго ждать, пока пригласят внутрь. В просторном дворе на взгорке высилось двухэтажное бревенчатое здание длиной метров в двадцать, украшенное резьбой. Испытал чувство разочарования, когда меня не пригласили в дом, а остановили на приличном расстоянии от дверей. Когда двери открылись, первым появился обтянутый темно-фиолетовой рясой огромный живот, на нем большой крест из «желтого металла» на массивной цепи, потом пестрая борода и сизый нос. Оригинал полностью соответствовал описанному накануне с юмором журналистами: «Пятьдесят семь лет, а выглядит лет на двадцать старше». Жизнь «наверху» потребовала слишком многого от когда-то, судя по всему, красавца-великана.
Счастливо справившись с бесконечное число раз повторяемым по дороге обращением (я уже подзабыл, кажется, «Ваше преосвященство»), я поведал ему о наших замыслах. Сказал, что в бывшем Вятлаге захоронены представители разных христианских конфессий, несколько тысяч человек из Балтии, и попросил оповестить всех священников о том, что в Вятлаге будет стоять крест и попросить их во время молитв поминать «невинно убиенных». Митрополит пообещал. Беседа наша длилась довольно долго. Священник рассказывал, как трудна была жизнь слуг Божьих при коммунистах, сколько священнослужителей погибло в том же Вятлаге. Такой разговор лучше было бы вести за бутылкой вина или кружкой пива, а не посреди двора. «Наместник Бога на земле» Вятской области даже не счел нужным предложить стул человеку, который проделал тысячи километров, чтобы вытесать крест замученным латышам на его земле его соотечественниками.
Пока я был на аудиенции у главы Церкви, Айнар копался в архиве, остальные участники экспедиции налаживали контакты с местными жителями. Это тоже было интересно. Прыжок из социализма в капитализм породил в умах людей такой хаос, сотворил такую кашу, которую не каждый мозг в состоянии был переварить.
В тот же день побывали с Айнаром в «министерстве» вну-тренних дел области. Встретили нас приветливо, проводили до самых ворот, но... поскольку все места заключения подчинены непосредственно Москве, ничем особенно помочь не смогут, но лагерному начальству сообщат. Спасибо и на том. О тюрьме, в которой, по имевшейся в нашем распоряжении информации, были расстреляны осужденные, они, как водится, ничего не знали. (Позже мы выяснили, что старая тюрьма как будто бы находится во дворе здания милиции. Новое здание выстроено вокруг тюрьмы. Согласно второй версии, здание старой тюрьмы было снесено.) Главное, чего мы добились в результате этой встречи, было распоряжение отметить наши визы в тот же день, хотя эта контора в тот день не работала. А для нас заработала. Ждать понедельника не пришлось. Был только четверг.
Рядом с огромным зданием отдела внутренних дел высилось старинное здание из красного кирпича. Памятная доска на стене гласила, что в 1919 году здесь размещался штаб славного красного полководца Азина. И этот латыш в свое время оставил след на Вятской земле. Кровавый след. Что им руководило? Идея? Жажда власти? А может быть, только желание «дать в морду» русским генералам? Неподалеку находился музей Азина. Зайти туда у нас не было никакого желания.
Вечером пора было отправляться дальше. Учитывая полученную накануне информацию, решили не ехать сразу же в столицу Вятлага - на станцию Лесная, а сойти в районном центре Кирса, где кировские журналисты и туристы посоветовали встретиться с двумя «светлыми» людьми. С одним из них, журналистом Виктором Бортниковым, я раньше переписывался, а о другом - бывшем следователе, который слишком глубоко копнул прошлое, за что и впал в немилость, нам рассказали в туристском клубе. И один, и другой могли снабдить нас ценной информацией о прошлом Вятлага.
К сожалению, наши планы не совсем совпадали с планами господина советника, с которым в тот день состоялась еще одна встреча. «Какая Кирса? У вас же билеты заказаны до Лесной, где вас будут ждать представители администрации учреждения К-231 (так теперь именуется Вятлаг), которые и информацию вам предоставят, и окажут всяческую помощь». Встреча в Кирсе с названными лицами явно была нежелательна. Как узнал он о наших замыслах? Чека по-прежнему была начеку. Нам не оставалось ничего другого, как принять их «правила игры». В противном случае мы рисковали вообще никуда не попасть. Мы были иностранцами в чужой стране.
Советник угощал нас бульоном из кубиков и растворимым кофе, был сама любезность, приглашал приезжать снова, обещал помощь во время следующей экспедиции, если она состоится. Приглашал по грибы-по ягоды. Советник снова проводил нас с третьего этажа до самого своего лимузина. Мы были растроганы и почти сожалели, то не захватили с собой смокинги...
На вокзале какая-то «Мария Ивановна» уже ждала нас с билетами «в зубах», и мы
отбыли дальше на восток. Ночью состав поменял направление на север. И вот мы уже
едем по «лагерной колее».
Дорога была отвратительная. Поезд еле тащился, раскачивался и подпрыгивал на
стыках рельс. Дорогой пользовались главным образом для транспортировки
заключенных и для редких составов с лесом. Как потом выяснилось, почти все леса
в регионе были вырублены. Одолевали мысли о латышах, которых когда-то везли по
этой дороге. И моего отца. Вспомнил услышанное еще в Кирове - поздней осенью в
лагерь привезли зеков, но когда открыли двери вагонов, там оказались одни
мертвецы... Люди умерли от голода и холода. Тут же, возле железнодорожной
насыпи, их и зарыли. Оказалось, что в пути эшелон загнали на какую-то боковую
ветку, где он простоял несколько недель...
Когда рассвело, вдоль дороги стали попадаться старые лагерные постройки без каких-либо признаков жизни.
И вот станция Лесная. Чувство было странное. Наконец я очутился в этом проклятом месте. В проклятом, жутком Вятлаге, поглотившем жизни множества латышей, в том числе и моего отца.
Встретил нас улыбчивый подполковник на двух «уазиках». Он представился как начальник хозяйственной части полка. Гостиница, где нам предоставили две комнаты, была в терпимом состоянии, без клопов и тараканов, которых еще совсем недавно можно было встретить и в московских гостиницах. На первом этаже столовая. В конце большого зала отворилась маленькая дверца, и нас провели в «господский конец». На столе уже стояли стаканы со сметаной, которая оказалась не хуже, чем в Латвии. Две улыбающиеся краснощекие девушки внесли блюда с пельменями...
Кабинет, в котором нас принял заместитель начальника К-231 Виктор Михайлович
(начальник в отпуске), был набит полковниками и подполковниками. Я познакомил
их с участниками экспедиции и с нашими целями и замыслами. Выразил надежду, что
чинить препятствий нам не будут, а помощь окажут. Попросил показать лагеря
сороковых годов и места захоронения и разрешить установить памятный крест на том
месте, которое окажется приемлемым как для нас, так и для них.
Помощь была оказана без промедления. К нам прикомандировали Петровича -
встречавшего нас подполковника. На все время, пока не будут завершены все дела.
И надо отдать должное, он свою задачу выполнил. Петрович снабжал нас
транспортом, материалами и прочими необходимыми вещами. Каждое утро он встречал
нас у дверей столовой и прощался, частенько уже сильно «под мухой» (без нашего
участия), когда мы шли спать.
Интересный и ценный разговор состоялся с начальником спецчасти Владимиром Ивановичем. Он снабдил нас информацией о Вятлаге в тридцатых и сороковых годах. Любопытно было его высказывание относительно места установки креста: «У нас здесь два «феликса» (в поселке стояли два памятника Дзержинскому. Один в полный рост, второй - бюст), один надо убрать, тот, что стоит возле входа в управление, бюст, и на его месте установить крест жертвам его «конторы». Было бы и символично, и справедливо. Пора становиться людьми и искупать грехи. И свои, и отцовские.» Вот так! Слова эти его коллеги восприняли неоднозначно. Кто-то криво улыбнулся, кто-то откровенно смеялся, кто-то мрачно хмыкнув, развел руками. Даже главный начальник улыбнулся.
От Владимира Ивановича мы узнали много интересного. Он собрал огромное количество материалов об истории Вятлага. Сказал, что у самого написать не хватит сил, но он с удовольствием поможет тем, кто за это возьмется. От него мы узнали, например, что с 1937-го по 1954 год через комплекс лагерей Вятлага прошло только политических заключенных более ста пятидесяти тысяч человек, это кроме уголовников. Лагеря были рассчитаны на пятнадцать - шестнадцать тысяч заключенных. 23 июля 1941 года в Вятлаге находилось 3174 человека из Балтии, в основном из Латвии. (Позже я узнал, что после войны, кроме них, в лагерях содержалось несколько сот латышских легионеров - военнопленных.) Эти цифры и многое другое узнали мы из короткого разговора с этим офицером. Он сказал также, что учреждение К-231 будет действовать, возможно, еще лет пять-шесть, а когда его ликвидируют, уничтожат и архивы. Значит, если такое случится, исчезнут и многие страницы нашей истории, черные, мрачные страницы, но без них наша история будет неполной. Эти страницы нужны не только для истории, они нужны сегодня, они будут нужны завтра. О том, какой ущерб был нанесен нашему народу, надо не только рассказывать, надо кричать, чтобы услышал весь мир. Так, как делают это евреи о своем Холокосте.
Сейчас на моем столе лежит изданная в Кирове в 1998 году книга об истории Вятлага под редакцией В.И.Веремьева и присланные за четыре года списки граждан Латвии и Эстонии, погибших в Вятлаге. Их около трех тысяч. Балтийцам в книге посвящено не очень много места. Эти несколько тысяч - лишь капля в море уничтоженных в Вятлаге людей.
В тот же день нас отвезли на так называемое латышское кладбище. Здесь когда-то хоронили заключенных из 4-го лагеря. Но от могил не осталось и следа. Офицеры, сопровождавшие нас, рассказывали, что когда детьми они пасли здесь коров, видны были еще могильные холмики. Валялись даже остатки сгнившей ограды. Старое железнодорожное полотно неподалеку почти полностью погрузилось в болото. Болота, болота, одни болота вокруг. О них я слышал давно, от людей, которым посчастливилось отсюда вернуться. Слышал и о том, что однажды осенью мертвых спустили в омуты. Весной они всплыли... Об этом рассказывали выжившие после Вятлага Путелис и Слуцкин. В присланной мне истории Вятлага напечатаны строки из воспоминаний бывшего русского заключенного: «.. .кругом - сплошные болота, а от них - постоянный влажный смрад и до костей пронизывающая холодная сырость. «Болотный дьявол» при жизни лишал лагерника здоровья и сил, но и после смерти не давал покоя его праху: весной и дождливым летом бездонная жижа, вспучиваясь, изрыгала на поверхность все из своего «нутра», а зимой полутораметровая мерзлота не давала вырыть могилу достаточной глубины, чтобы по-людски захоронить покойников...»
Показали нам в Лесном место, где много лет назад собирались поставить памятник
жертвам сталинского террора. Однако дальше разговоров дело, к сожалению, не
дошло. Привезли несколько грузовиков со щебнем, и на этом все. Щебень затянуло
трясиной.
Осмотрев поселок и его окрестности, выбрав ствол, пригодный для креста, взвесив
все ргоеХсоШга, решили установить крест на южной окраине поселка, на холме между
старым и новым кладбищем, недалеко от железной дороги. С холма весь поселок был
виден, как на ладони, и крест будет виден далеко. Из окон проходящих поездов
тоже.
Старое кладбище было заброшено. Рассказывали, что вначале заключенных хоронили на старом кладбище, а потом прямо у лагеря. На поселковом кладбище хоронили только лагерный персонал. На их могилах стояли маленькие деревянные и жестяные памятники с венчавшей их пятиугольной звездой. Кто-то из офицеров показал могилу своего отца. Во время разговора выяснилось, что здесь сложились своего рода династии лагерной обслуги. Сейчас здесь служили, перед выходом на пенсию, сыновья охранников наших отцов. Большинству на смену придут их сыновья, которые сейчас учатся в военных училищах. Среди них и сын нашего «куратора» Петровича. Парадокс заключался в том, что не всегда главой династии был кто-то из бывших вохровцев. Бывало, что главой династии становился бывший заключенный, которому и после освобождения было запрещено выезжать за пределы поселка. Потомки отпущенных на волю рабов становились надзирателями, поднимались и выше. Разве мало подобных примеров в истории? И в нашей истории тоже. Расскажу об одной интересной встрече в Лесном.
Выйдя из административного здания после знакомства с начальством, мы столкнулись с ожидавшей нас женщиной. Судьба ее сложилась необычно. Женщина (назовем ее 2.) 14 июня 1941 года пятнадцатилетней девочкой была выслана вместе с родителями из Лиепаи. Они были евреи. Отец оказался в Вятлаге, мать с несовершеннолетней дочерью и сыном - в Красноярской области. Каково же было их удивление, когда неожиданно весной 1942 года к ним приехал отец в форменном френче и увез семью в Вятлаг. Оказалось, отец сумел доказать, что его арест был ошибкой. Арестовать должны были семью владельца магазина, а не его, работавшего продавцом. Он был освобожден и принят в лагерь переводчиком и перлюстра- тором. (Замечу, что в приходивших из Вятлага письмах иной раз половина текста была зачеркнута.) 2. закончила в Лесном школу, потом Кировский педагогический институт и работала в поселковой школе. Брат тоже служил в системе лагерей и дослужился до полковника. Все это она рассказывала с гордостью и добавила, что писала в Лиепаю с просьбой возместить ей нанесенный в связи с высылкой ущерб. Бедная женщина то ли не понимала, то ли не хотела понять, что с ней произошло, кто были ее отец и брат с нашей точки зрения. Мы не стали ее ни в чем разубеждать.
Закончился первый день в Вятлаге. Я устал, устал и физически, и морально. Болела нога, болела спина. Щемило сердце. Лежал в гостиничном номере и не мог заснуть. И отец прожил где-то здесь свой первый день. Думал я о том, что все же исполнил данное себе давным-давно обещание побывать на земле, где лежит мой отец. Никогда не питал надежды найти его могилу, потому что слишком хорошо знал, как хоронят в лагере арестантов. И приехал я в Вятлаг, чтобы поставить крест не только отцу. Минуло слишком много лет, и образ отца лишился конкретики, он ассоциировался с тем, чему трудно подыскать название, не прибегая к ставшим банальными от частого употребления словам.
Второй день в Лесном начался с поездки в 7-й лагерь - вернее, туда, где он когда-то находился. Знаменитый 7-й лагерь фигурирует во всех так редко приходивших из Вятлага письмах и в воспоминаниях счастливо избежавших здесь смерти.
Из оказавшихся в 1941 году в Вятлаге восемнадцати мужчин из Екабпилса вернулись
только двое - Путелис и Ландманис. Ландманис умер во время второй ссылки в
пятидесятые годы, Путелис умер во время Атмоды. Из двадцати попавших в Вятлаг
крустпилсчан в Латвию не вернулся никто, из шести мужчин из Внесите тоже никто,
из семи из Яунелгаы вернулся один, из
Даудзесе все шестеро остались там, из пяти мужчин из Нерете вернулся один и т.д.
Всего из моего родного Екабпилсского уезда из ста десяти мужчин, оказавшихся в
Вятлаге, погибло девяносто пять.
Для иллюстрации процитирую отрывок из уже упоминавшейся и цитировавшейся книги русского ученого и писателя, проведшего долгие годы в Вятлаге Дмитрия Панина «Лубянка - Экибастуз». Строки не только об ужасах лагерей и судьбах латышей, но и мысли Панина о том, что должны были делать балтийцы в то время, когда решалась их судьба.
В лагере было много латышей. С нашим этапом прибыли еще новые, главным образом, высокопоставленные. Это был цвет латышской нации как по положению и образованию, так и по знанию своей жизни. Основная масса была завезена в лагерь без тюрьмы и следствия, поэтому им удалось захватить полные чемоданы одежды, сала, папирос... Первое время нарядчики их не трогали, так как им было чем откупиться. За лагерным обедом они пока еще не ходили и проводили время, куря длинные папиросы и беседуя друг с другом.
Когда сало кончилось, нарядчики, косясь на их чемоданы, стали вызывать на работу. Тогда в ход были пущены костюмы, пальто, шубы невиданной заграничной выделки и качества. Часть имущества пошла нарядчикам для откупа от работ, а большая - на покупку жира и хлеба...
Но вот чемоданы опустели, табак выкурен, запасы давно съедены. Нарядчики, уже без улыбок, зашли в барак, поигрывая «дрыном», и объявили выход на работу... Уже с ноября страшно было смотреть на синие лица этих живых трупов, когда проходи-ли вереницы латышских доходяг, одетых в когда-то роскошные, в нашем советском понимании, одежды. Пройдя через вахту, они не шли, а брели в лес. Скоро они стали пополнять бараки смер-тников, где умирали, истощенные и обессиленные от голода. Сам дьявол отмерял дозу для медленной мучительной голодной смерти. Это была паечка хлеба в 375 граммов, когда припек до-стигал 60-62%, превращая этот кусок во влажную глину. Кроме того, при выпечке к зернам ржи и ячменя подмешивали какие- то суррогаты, ошметки, шелуху, понижая и без того низкую калорийность так называемого хлеба. (..) Неудивительно, что в этих истребляющих условиях от этапа в сто зеков через год оставалось в живых два-три человека.
Немалое число латышей попало в лагерные тюрьмы. Дело том, что они привыкли к европейскому обмену мнений, и стукачи, навербованные из их же среды, сажали наиболее говорливых и откровенных, часто самых лучших, тех, кто выражал резче и безбоязненнее возмущение и гнев.
А из изолятора первый год войны была одна дорога: ногами вперед. Дизентерия, цинга, пеллагра косили нечастных не менее тщательно, чем на лагпункте.
(..) блатари, которых время от времени бросали в изолятор за их разбой на лагпункте, мучаясь от голода, иногда ночью душили на нижних нарах какого-нибудь обессиленного латыша только для того, чтобы, приподняв его и придав ему сидячее положение, получить на него крохотную пайку. Порой для этой цели труп держали на нарах два-три дня, так как разложение, протекающее у истощенных замедленно, допускало такое хра-нение трупа. Когда же больше терпеть было нельзя, они кричали надзирателю: «Эй, начальник, убирай падаль!»
На наших глазах погибло множество латышей, цвет нации. Их бесславный конец
казался чем-то придуманным и ненужным.
По моему тогда уже глубокому убеждению, люди гибнут потому, что неумеют, вернее,
не хотят друг другу помогать. Поэтому я стал развивать сначала лениво, а потом с
увлечением - тему о том, как следовало вести себя латышам, эстонцам, литовцам во
время финской войны.
В 1939 году финны восхитили мир своим героизмом, покрыли себя неувядаемой славой. Барон Маннергейм и руководимый им трехмиллионный народ противостоял Сталину с его двухсотмиллионным населением.
Три маленькие прибалтийские страны должны были выступить на стороне Финляндии против явной агрессии сталинизма. Ибо после раздела Польши в 1939 году участь прибалтов была решена. (..) с иллюзиями следовало расстаться сразу, как только Сталин напал на Финляндию. (..) им следовало объявить объединенный протест Сталину о прекращении нападения на Финляндию и одновременно всеобщую мобилизацию. Сталин, конечно, двинул бы на них войска, но он это все равно сделал спустя несколько месяцев. (..) они могли бы отстоять свою независимость, уж не говоря о славе и об истинном величии, которыми бы покрыли себя. Их решение имело бы огромный моральный эффект.
Перспектива отстоять свою самостоятельность открылась бы благодаря упорной одновременной борьбе финнов и прибалтов в их лесах с красными оккупантами. Требование Гитлера Сталину, положившее конец финской войне, распространилось бы и на прибалтов.
Так думал русский интеллигент Дмитрий Панин, и такой ва-риант действительно был
возможен. Лучше бы стало или хуже? Только одному Богу известно. Он решил так, а
не иначе.
Мы ехали на дрезине скорой помощи в северном направлении. Провожал нас Петрович
и какой-то полковник - начальник оперативной части, «мрачный старикан». Просил
не фотографировать...
Еще до выезда на седьмой за завтраком Петрович рассказал, что накануне вечером офицеры из-за нас чуть не передрались. И здесь люди разделились на демократов и социал-консерваторов, и консерваторы не в большом восторге от нашего появления, особенно от того, что мы все фотографируем. А вдруг отправят фотографии в Америку (почему в Америку? Абсурд!). Потасовка произошла в подпитии. «Обмывали» звездочки - очередное по-вышение в звании двух офицеров. Перепились, стали ругаться, чуть не дошло до потасовки.
Что касается фотографирования, признаюсь, был такой «грех». Накануне, осматривая поселок, в сопровождении Петровича фотографировали Ленина (без него по-прежнему не обходится ни одна порядочная деревня в России) и обоих «железных Феликсов» и даже позировали на их фоне. Вероятно, кое-кто посчитал это издевательством, надругательством над святынями. В результате скандал среди офицеров. Положение спасло благожелательное отношение к нам высшего начальства, а в качестве компромисса нам не разрешили снимать сгоревший 7-й лагерь. Это был не приказ, это была любезная просьба. Приказывать иностранцам нельзя, можно только высказать просьбу или посоветовать.
Проехали пять или шесть километров, дальше пошли пешком, пока не достигли остатков лагеря. Увидели только одно кирпичное здание. Сгорело все. Даже колодезные срубы обгорели до уровня воды. Сгорели столбы, на которых крепилась колючая проволока. Кое-где торчали металлические столбы - куски рельсов и мотки «колючки». Но и по тому, что осталось, можно было судить о грандиозных размерах лагеря. Фотографировать нельзя. Почему? Очередная российская тупость? Как говорится: «Хлебом не корми, только дай что-нибудь запретить». И в царские времена так было или это советские порядки?
О деконсервации и укомплектовании кадрами 7-го лагеря я уже говорил, когда писал об августовских событиях.
На месте бывшего захоронения кустарниковые джунгли, березы, ольха, ели, стволы которых не обхватить ладонями. Ничто не говорило о том, что когда-то здесь было кладбище. До лагеря километр, и хоронить могли всюду. Вблизи лагеря хоронили, когда смертность была слишком высока, но вот уже много лет хоронят на поселковом кладбище. Поэтому нынешние офицеры и не знают, где находилось лагерное кладбище. И сейчас нам на него указали собиравшие ягоды. Мы развернули флаги, поставили свечи на пни и трухлявые стволы огромных сосен, свидетелей шумевшего здесь когда-то леса. И тут наши полковники вытащили из сумки бутылку коньяка и стаканы и кто-то из них предложил: «Помянем по русскому обычаю тех, кто здесь похоронен». Этого мы не ждали. Выпили. Оба офицера отошли метров на сто в сторону и прилегли в траве.
Мы зажгли свечи. Айнар зачитал имена тех, кто остался в Вятлаге. Это лишь малая часть тех, кто лежит на этом и окрестных лагерных погостах. Возможно, большой крест надо было установить здесь, возле 7-го лагеря, где, скорее всего, лежит большинство наших, но здесь это сделать невозможно, как и на кладбище 4-го лагеря. Может быть, со временем. Но кто это сделает? Я уже не смогу.
Дрезина ушла куда-то на север, и в ожидании ее мы медленно зашагали обратно. Дорога в ужасном состоянии. Рельсы зигзагами. Впрочем, такой она была всегда. Вспомнилось рассказанное совсем недавно бывшим врачом Вятлага Чаманисом. Вагоны так трясло на рельсах, что часто ослабевшие арестанты просто падали с платформы и оставались лежать на снегу. Поезд из-за них не останавливали. Случалось, что выпавших пристреливали - за попытку к бегству... Чаманис и сам несколько раз чуть не выпал - удержаться на платформе закостеневшими от холода руками можно было с трудом, да и сил не осталось.
Несколько слов хочется посвятить этому легендарному человеку, имя которого фигурирует в воспоминаниях прошедших Вятлаг. Хирург и гинеколог Сильвестр Чаманис был арестован 14 июня прямо в операционном зале железнодорожной больницы, которая находилась тогда на улице Меркеля. Оказавшись в Вятлаге, он сначала отказался работать врачом, вместе со всеми ходил на общие работы, не желая пользоваться никакими привилегиями, которые полагались врачу. Только зимой, когда началась повальная смертность и сам он уже был близок к смерти, он согласился исполнять обязанности врача. Он многим помог, насколько это вообще можно было в тех условиях, и часто проводил в больнице свои свободные дни, спасая людей от смерти.
Чаманис рассказывал, что акты о смерти, где он называл ис-тинную причину смерти - голод, пеллагра, замерз, начальство рвало и вписывало новый диагноз: умер от воспаления легких или сердечной недостаточности. Этот диагноз записан в делах чуть ли не всех умерших в Вятлаге, и в деле моего отца тоже. Мой отец умер от воспаления легких? Человек, который не знал, что такое насморк.
Чаманис пережил Вятлаг, потом Казахстан. Хоронили его в 1998 году на Лесном кладбище, укрыв полотнищем Латвийского флага и под прощальные залпы почетного караула, ибо и он был офицером Латвийской армии.
В полдень дрезина доставила нас обратно в поселок, и мы начали делать крест, копать яму и бетонировать основание для креста. Самое паршивое, что начался дождь. Моросящий, нудный осенний дождь, и лил он, не переставая, все оставшиеся дни нашего пребывания в Лесном.
После первых же ударов топора меня обуял страх - не переоценил ли я свои силы, свои плотницкие навыки. Прошло столько лет с тех пор, как я рубил избы в сибирской тайге, на берегах Енисея. Почти пятьдесят лет по-настоящему я не работал топором, разве что в туристских походах да вытесав крест в Агапитово пять лет назад. Осложнял работу и ни на минуту не прекращающийся дождь. Метку на мокром бревне поставить было невозможно, все приходилось делать на глазок. Нам предложили воспользоваться пилорамой, но мы решили все сделать своими руками. Крест мы ставили своим отцам, и вытесать его должны были сами. У вытесанного бревна век дольше, чем у распиленного, это давным-давно известно. А чтобы продлить жизнь креста, мы привезли с собой из Латвии и пропитку для дерева.
Пока я в самом центре поселка, чуть ли не во дворе управ-ления, в пятидесяти метрах от памятника Ленину, сражался с деревом, остальные месили грязь и глину, копая яму и бетонируя основание для креста. И тут мы отказались от помощи. Все надо сделать самим.
Камней, которые доставляют столько забот латышскому крестьянину и которые нам сегодня очень бы пригодились, в окрестностях Лесного не было. Ни одного камня не было ни в поселке, ни на окрестных полях и лугах. Зато на каждом шагу встречались металлические предметы, куски арматуры, витки колючей проволоки, детали рельс и пр. Ребята ходили по полю, собирали металлолом и бросали его в яму.
Жуткая, смердящая глина Вятлага! Не глина, а липкая болотная жижа, о которой я слышал и которую мне теперь пришлось месить. Меня не оставляла мысль - что испытывали здесь люди пятьдесят четыре года назад? И отец брел по этой грязи. Без подходящей обуви и одежды, без еды и, очевидно, утратив всякую надежду. Было ему всего пятьдесят три года. И тут, в Лесном, я внезапно осознал, что я на целых шестнадцать лет старше своего отца...
Не дай Бог лежать в такой земле! Если бы у меня была хоть малейшая возможность отыскать отцовскую могилу, я бы обязательно перевез его в Латвию. Но ни у кого не было и не будет возможности отыскать здесь могилы своих родственников. «Захоронен в специально отведенных местах». Вот и все координаты.
Мимо нас часто проезжали похоронные процессии. Мы прерывали работу, снимали шапку и стояли по стойке смирно, пока процессия не отдалялась. Позже Петрович рассказывал, что говорили поэтому поводу жители поселка: «Видишь, какие они, латыши! Даже работу бросают и шапки снимают, когда мы своих покойников везем хоронить».
Вообще же отношение к нам местных было очень сдержанным. Мы их почти не видели, хотя работали в самом центре поселка. Они наблюдали за нами издалека, никаких вопросов не задавали. Только в последние дни мы узнали, что вся округа о нас говорит и наша экспедиция пользуется популярностью.
В первый же день нас поразила офицерская форма. Такую хорошую на офицерах мы еще не видели. Фуражки с высоко поднятой тульей с двуглавым орлом на околыше напоминали фуражки немецких офицеров из кинофильмов. Петрович потом нам рассказывал, что весной в поселок приезжала киногруппа из Японии, снимавшая фильм о какой-то японской шпионке, которая когда-то находилась в Вятлаге. В ожидании японцев офицеров и одели в новую форму. Но комбинация двуглавого орла с красной звездой, серпом и молотом - просто чистейшей воды идиотизм.
Вохровцы считали себя составной частью армии, а себя истинными офицерами, а мы и не собирались развеивать их сладкий самообман. Как-то произошел комический случай. Вместе с Петровичем в столовую зашли два офицера - по-дружески поговорить. Не обошлось и без бутылки. Когда я встал и, подняв стакан, в шутку произнес: «Господа офицеры!», все, как один, вскочили, держа стакан в руке и подняв локоть на уровень плеча. Будь на них шпоры, раздался бы звон. Это выглядело так комично, что все засмеялись. И они тоже. Сказали, что так у них принято после подобного обращения. Ужин прошел «в теплой, дружественной обстановке».
Они мало знали о прежних временах, да и, кажется, не хотели знать. Рассказывали им что-нибудь отцы? Как долго придется им отмаливать перед богом грехи отцов? В той же истории Вятлага читаем в воспоминаниях бывшего заключенного: «... Опоздал на работу - выводят за зону на сорокаградусный мороз, рисуют на снегу квадратный метр и держат там без костра, пока не превратишься в сосульку. Потом свяжут ноги, веревкой привяжут к лошади - и скачет «гражданин начальник» в лагерь. Что происходит с зеком, никого не интересует. Главное - стопроцентный выход на работу».
16 августа, на десятый день нашего путешествия, на территории Вятлага поднялся вытесанный из сосны массивный шестиметровый крест. У подножья креста в железобетонный монолит вмуровали бронзовую пластину с текстом: «Гражданам Латвии - жертвам коммунистического террора 1941 - 1953 гг.» Над текстом - герб Латвии. Под пластиной замуровали урну с песком, взятым на Лесном кладбище у Белого креста, цветы, переданные нам провожавшими, и письма родственников. В последнюю минуту мне пришло в голову, что надо бы замуровать и послание. На вырванном из блокнота листке написал и вложил в урну подписанное всеми нами послание:
15 августа 1995 года Поселок Лесной, Кировская (Вятская) область
Мы, участники экспедиции «Вятлаг - Усольлаг'95», организо-ванной Объединением
политически репрессированных Латвии и профинансированной жителями Латвии, -
граждане восста-новленной и освобожденной от ига коммунизма Латвийской
Республики - Илмар Кнагис, Альфред Пушкевицс, Айнар Бамбалс, Зигурд Шлице и
Ингвар Лейтис - замуровали в подножье памятного знака - креста это письмо, урну
с землей Латвии, взятой у подножья Белого креста, цветы Латвии и флажок Латвии.
Вечная память и слава сынам и дочерям Латвии, которые лежат в этой далекой земле
России! Мир праху их!
Далее следуют наши подписи.
Закончив, направились в управление К-231, где нас ждала администрация. Это была их просьба. Было уже поздно, но полковники ждали нас. Мне поручили произнести прощальные слова и выразить благодарность, ибо без их помощи мы действительно ничего не смогли бы сделать.
Я уже говорил, что оратор из меня неважный, но коллеги потом говорили, что «свою партию» я исполнил хорошо. Статус иностранца не допускал провала.
Я сказал о том, что на кладбищах бывшего Вятлага лежат лучшие сыны нашего народа, цвет нашей нации. Они были уничтожены потому, что их считали врагами коммунистической власти. Так оно и было, но во врагов их превратила сама власть. Эта власть была жестока и несправедлива не только по отношению к нашему народу, но ко всем народам, в том числе и к русскому. Но если они и были врагами этой власти, то врагами русского народа они не были.
Я сказал, что в Вятлаге лежат многие их тех, кто сражался не только за свободу Латвии, но в свое время воевал в армии России, как мой отец, и имел награды не только Латвии, но и России - и Георгиевские кресты, и Владимира, и Анну, и Станислава и пр. Сказал, что поколения, которые придут после нас, рассудят все по справедливости, все расставят по своим местам.
Я выразил полковникам благодарность и надежду на даль-нейшее сотрудничество. Нам преподнесли сувениры - резьбу, выполненную заключенными, и поблагодарили нас за нашу работу.
Когда мы вернулись домой, живущий за границей наш соотечественник - еврей, после просмотра видеофильма о нашей поездке и выслушав наш рассказ, высказал интересную мысль. Он с трудом представляет, что кто-то из евреев пожмет руку сыну бывшего сотрудника немецкого концлагеря...
Поздно вечером снова ходили к кресту. Немного опасались, как бы не выломал кто бронзовую табличку из еще не затвердевшего бетона, решили ночью сторожить. На сей раз шли пешком. Да и просить ночью машину было бы уж слишком...
Идти предстояло несколько километров. Я еле передвигал ноги, но не пойти не мог. Тропка вилась вдоль железнодорожного полотна. По обе стороны насыпи болота. От болот поднимался туман. Заметно похолодало. У подножья креста зажгли красные и белые свечи, возложили оставшиеся цветы из Латвии и рассыпали лепестки роз. Развели костер. Молча стояли в изножье креста под Латвийским флагом. Языки тумана, наплывавшие от подножья горы, обвивались вокруг креста, и чувство было такое, что мы здесь не одни...
Да, странное чувство сопровождало меня все дни пребывания в Вятлаге. Отца я ощущал теперь как живого человека, а не как нечто, слившееся с прошлым и его олицетворявшее.
Спустя годы, встречаясь и вспоминая проведенные в Лесном дни, мы каждый раз говорили о том, что можно лишь удивляться, как за столь короткий срок нам удалось проделать такую работу. Словно бы нам помогал кто-то, словно бы чья-то невидимая рука водила моей рукой, державшей топор...
На следующее утро, прежде чем попрощаться, мы еще раз побывали на месте, где был установлен крест. Зажгли свечи, развернули флаг, спели «Боже, храни Латвию!» Вот уже восьмой год мы поем свой гимн, а у меня каждый раз перехватывает горло и слезы наворачиваются на глаза. И вот он звучит в далеком страшном Вятлаге, самом страшном для нашего народа. Звучит гимн Латвии и развевается красно- бело-красный флаг!
Проходящие мимо поезда протяжно гудели.
Спускаясь с горы, мы встретили двух мужчин. Уже у подножья они сняли шапки, поклонились до земли и перекрестились. Увидев нас в машине, подняли вверх большой палец. Я ответил им, сложив руки как для рукопожатия.
Поезд вез нас на юг. Мы сделали половину намеченного. Мимо вагонных окон мелькнули последние дома поселка, кладбище и крест. Локомотив не переставал гудеть. Еще некоторое время на фоне серого неба был виден силуэт большого креста, и потом растворился вдали.
Первый этап нашего путешествия завершился. С тяжелым сердцем покидал я это место. Всего-то и смог я сделать в память об отце, что вытесать крест. И далеко от его могилы. Но какое это имеет значение? Главное - память.
Позади остался Вятлаг, нас ждал Соликамск, где тоже надо было воздвигнуть крест. Был момент, когда мне показалось, что я уже ничего не смогу сделать. Я сделал то, что обещал себе когда-то, что не давало мне покоя много лет. Теперь можно бы и расслабиться, отдаться во власть усталости, болезней, лет. Но надо было стиснуть зубы и продолжить начатое, выполнить задуманное до конца. Мною задуманное и начатое. И снова - рюкзак за плечи и «Вперед, сыны латышского народа!»
Поезд вез нас на юг, и ночью в Зуевке мы пересели на скорый, который помчал нас на двести километров восточнее - в Пермь.
Пермь. В 1941 году город назывался Молотов. Коллеге разоблаченного Хрущевым советского государственного деятеля Вячеслава Молотова Сергею Кирову, который сошел с политической арены и благодаря этому оказался в списке «пай- мальчиков», повезло больше - его имя до сих пор увековечено в названиях городов, заводов, кораблей. Его товарищу - Молотову - повезло меньше, и городу, носившему его имя, возвращено прежнее название - Пермь.
На вокзале и привокзальной площади в Перми мы столкнулись с тем же, что и в Кирове. Если не еще хуже. Грязь, горы мусора, бомжи и проститутки. С опаской подумалось, что и Рига со временем могла превратиться в нечто подобное, если бы Бог не отмолил нас вовремя. Сопротивление латышей типично русскому беспорядку, небрежности и подобным качествам за годы оккупации было почти подавлено.
Резиденция губернатора, куда нам надо было направиться прежде всего, располагалась в бывшем здании ЦК компартии, как, вероятно, в большинстве столиц областей и краев России. Да и часть обитателей была прежней, но тут удивляться нечему. Странно было бы, если бы было наоборот
В губернаторской конторе не было никакого приема с кофе- питием, как в Кирове. Вся беседа велась на уровне секретарей и по телефону. Милый голосок в телефонной трубке сообщил, что завтра утром нас будут встречать на вокзале в Соликамске. Отпали заботы о ночевке в Перми, да и экономить время надо было. О нас уже была отправлена информация и нам был дан «зеленый свет», за что надо благодарить нашего посла Яниса Петерса. (Стоит заметить, что не все шло так гладко, как я описал в нескольких строчках. Нервничали, обзвонили десятки номеров, «отфутболивали» нас от одного к другому, но в конечном счете все утряслось за несколько часов.)
До отхода нашего поезда оставалось пару часов, и Ингвар с видеокамерой в
сопровождении Айнара и Альфреда отправились осматривать ночной город,
запечатлеть на видео пристанционных бомжей и «проказниц». Это слишком
бесстыдное вмешательство в интимную жизнь чужого государства пресекли несколько
«парней в штатском». Все было чрезвычайно корректно. Изучив украшенные красивым
гербом наши паспорта, нам вернули изъятую видеокамеру во избежание
межгосударственного конфликта. Только предупредили - в здании вокзала не
снимать (Ингвар только-только нацелил камеру на лежащую в пикантной позе
«даму»). На улице снимайте, сколько вздумается.
За все время нашей поездки это было единственное сопри-косновение с конторой,
которая нас «пасла». А то, что за нами наблюдают, мы чувствовали с самого
Кирова. Происходило все ненавязчиво, незаметно. Но я чувствовал это «шкурой». И
не только я. Настоящий иностранец, возможно, этого бы не заметил. А может быть,
нам это только казалось. Слишком уж глубоко въелся у старых многоопытных
советских граждан синдром преследования, «чекафобия». Но и удивляться этому не
стоило, учитывая наш статус иностранцев, тем более балтийцев, и места, по
которым мы передвигались.
На вокзале в Соликамске встречали нас не офицеры, как в Лесном, а помощник главы города по национальным вопросам Белкин и руководитель немецкой общины Эдвин Гриб. Оба показались людьми симпатичными, и первое впечатление со-хранилось до последнего дня.
Приняли нас очень радушно. Ни палатки, ни спальные мешки и здесь, как и в Лесном, доставать нам не пришлось ни разу. Без сомнения, учитывая криминогенную обстановку в районе, размещенные в окрестностях места заключения, спать в палатке было бы неразумно, да нам никто бы и не позволил. Мы не были обычными туристами. В наше распоряжение предоставили весь верхний этаж девятиэтажного корпуса.
Первый день мы посвятили осмотру села Боровское. Место это, которое сейчас считается пригородом Соликамска, тоже фигурирует во многих воспоминаниях репрессированных латышей. Когда-то здесь располагалось несколько лагерей, от которых сегодня не осталось и следа. Солевой завод с многовековой историей, закрывшийся всего несколько десятилетий назад, превращен в музей. В нечеловеческих условиях как в царские, так и в советские времена трудились здесь каторжники. Во время войны в Боровское привезли десятки тысяч немцев из ликвидированной Поволжской немецкой автономной республики. Большинство из них лежало на местном кладбище. Потомки разъехались - кто в Германию, кто куда. В Соликамске осталось всего несколько тысяч.
В сопровождении Эдвина Гриба мы ходили по кладбищам Боровского. Какие только национальности не были здесь пред-ставлены! Латыши тоже. Но в основном немцы. И снова подумал я о том, что несмотря на пережитое за полвека, как же должны мы быть счастливы, что у нас есть свое государство, что мы можем жить на своей земле, в своем отечестве, говорить на родном языке. Как долго? Это зависит главным образом от нас самих.
Весь день с небольшими перерывами лил дождь, как и в Лесном. Не перестал и на следующий день, когда нас принимала администрация Соликамских мест заключения, теперь учреждения АМ-244. Информация о нас уже была получена, и специально для нас был приглашен один из немногочисленных оставшихся в живых чекистов, работавших в сороковых годах, - Никитич. В те годы он был начальником санчасти лагеря, сейчас ему должно было быть далеко за восемьдесят, но выглядел он очень бодро. Памятью отличался феноменальной. Он называл не только фамилии, но и имена и отчества. В большинстве случаев врачей. Среди названных был военврач проф. Брамбатс, директор департамента здоровья Латвии Оскар Алкс, рентгенолог Янис Ледыньш и др. Старый лагерный доктор говорил свободно, связно и, кажется, откровенно. Возможно, сценарий был разработан заранее - времени у них было достаточно, мы не свалились к ним как снег на голову, не то, что в Кирове. Позже, когда я вспоминал нашу поездку, вынужден был признать, что здесь обстановка была не такой напряженной, как в Кирове и Лесном. В Соликамске мы чувствовали себя свободней. По нашей просьбе нам принесли около десяти дел заключенных - папки с протоколами допросов, акты о смерти и захоронении и пр. Из дела известного книгоиздателя Яниса Розе мы узнали, что осужден он был через полгода после смерти. Юридический казус? Нет, обычное в те времена явление.
Через несколько часов, прошедших «в теплой дружеской беседе» мы покинули гостеприимное помещение учреждения АМ-244, где в каждом кабинете смотрели на нас инкрустированные портреты Ленина и Дзержинского, сделанные руками заключенных, и отправились в старую тюрьму.
Соликамская тюрьма была оборудована в тридцатые годы в помещениях ликвидированного мужского монастыря. Таких монастырей-тюрем в Советском Союзе было пруд пруди. Когда возникла необходимость изолировать миллионы, оказалось проще всего перестроить в тюрьмы каменные монастыри. Оставалось только поставить на окна решетки, и тюрьма готова. К тому же такая, с которой даже американскому «Синг-Сингу» трудно было равняться. И первых заключенных далеко искать не пришлось - сгодились те же монахи.
Соликамская тюрьма была ликвидирована в восьмидесятые годы и теперь была доступна не только каждому желающему, но и всем стихиям природы. Когда-то красивое, святое, могучее и вну-шающее трепет сооружение превратилось в свалку и публичный туалет. С трудом пробрались в подвалы. Ходили по коридорам и камерам - бывшим монашеским кельям. Стены некоторых камер были забраны стальными пластинами. Окна с двойными и даже тройными решетками. Кое-где сохранились «намордники» - щиты, закрывающие окна, которые летом жизнь в камерах делали невыносимой (вспомнился московский «карантин»).
На куполе главной монастырской церкви кое-где сохранились остатки фресок - лица святых апостолов и фрагменты фигурок ангелов. Валялись детали старых стеллажей. Очевидно, предпринимались попытки начать реставрационные работы, но потом все бросили. Слишком много в России объектов, требующих реставрации, и слишком мало тех, кто может и хочет что- нибудь делать. Но разве это главное? Главное - обновить человеческие души. Вспомнились документальные кинокадры. С каким восторгом необразованный, превращенный в зверя русский народ топтал ногами свои святыни, срывал с церквей колокола, взрывал церкви! Разрушал все, что создавалось столетиями. Не только свои святыни, но и святыни других народов. А теперь успокаивает себя, что во всем была виновата идеология, партия, жиды, латыши, немцы! Все! Только не сами русские. Недавно в одной из передач российского телевидения прозвучали слова государственного деятеля Виктора Черномырдина, которые могут и насмешить (похоже, что это и была шутка), но и заставить задуматься: бродил, бродил призрак коммунизма по Европе, нигде не зацепился, а тут Россия...
Осмотрели то, что надо было осмотреть в Соликамске и на что хватило времени. Все взвесив, решили поставить крест у Бо-ровского кладбища. Нас поддержали и Эдвин Гриб, и советник Белкин. Помогала нам не администрация лагеря, как в Лесном, а строительно-монтажный завод, где Гриб до пенсии работал главным инженером. В сваленном на заводском дворе штабеле бревен нашли два как будто подходящих. Нашли с большим трудом - бревна, которые мы по одному вытаскивали из штабеля, были подгнившие. Я начал работать топором, Зигурд и Альфред отправились километров за пять рыть яму для креста, а Айнар и Ингвар в сопровождении офицеров и старого врача поехали в лагерь Сурмога, упоминавшийся в воспоминаниях бывших каторжников Соликамска, который находился за несколько десятков километров отсюда, туда, где раньше был лагерь и где сейчас расположены лагеря для заключенных.
Начал тесать бревно, но скоро понял, что и оно не годится. И второе, выбранное в спешке, было с изъяном. Я был в шоке. Что делать? Вспомнил, что, когда шли пешком, на другом конце села видели штабель бревен и работавший там погрузчик. Направился туда. Рассказал трактористу о своей беде и пояснил, для чего нужно бревно. Долго объяснять не пришлось - вся округа уже знала о нас. Переворошили всю кучу, пока нашли хоть сколько-нибудь подходящее. Тракторист потратил на это дело полдня. Когда я предложил ему деньги, он даже отшатнулся: «На святое дело?!» Потом он нашел машину, и мы, рискуя нарваться на автоинспектора, приволокли десятиметровое бревно на заводской двор, и я снова принялся махать топором.
Люди здесь были не такие, как в Лесном. Подходили пого-ворить, интересовались нашей работой и Латвией. Некоторые даже не знали, что здесь творилось в прежние времена. А ведь прошло всего каких-то сорок-пятьдесят лет.
Фундамент для креста сделать оказалось проще, чем в Лесном. Земля была песчаная, и хотя дождь лил не переставая, не пришлось месить смрадную жижу, как в оставшемся уже в прошлом и все же незабываемом Вятлаге. И бетонный раствор привезли готовый. Не надо было ни мешать, ни махать лопатой. Да и с цементом не пришлось возиться, как в Лесном, где Петрович привез нам два последних мешка со словами: «Это все, ребята! Больше цемента нет во всем поселке».
Благодаря оказанной нам помощи удалось уложиться в сроки, отведенные визой. Позже, когда мы анализировали, что было сделано и что не сделано во время поездки, стало ясно, что только на один Вятлаг или на один Усольлаг потребовалось бы все отведенное нам время. Мы постоянно торопились. Многое из намеченного не сделали. Не изученными остались архивы, если бы нас к ним допустили. Учитывая благожелательную атмосферу как в Лесном, так и в Соликамске, более подробное ознакомление с архивными материалами казалось не столь уж невозможным. Мало беседовали с местными жителями. И не только от нехватки времени, часто просто из-за усталости. Работали мы все дни от темна до темна.
Однако самое главное мы сделали - еще два креста, воз-двигнутые нашим соотечественникам, стоят в России. Но эти кресты должны напоминать русскому народу о том, что когда-то случилось в их стране. Сотни, тысячи крестов должны были стоять на просторах России, которая испокон веков была тюрьмой и кладбищем народов.
В Соликамске интервью у нас взяли сотрудники местной газеты. Во время беседы они высказали мысль, что инициатива об установке таких крестов должна была бы исходить от самих русских - не только потому, что русский народ пострадал больше всех, но и потому, что виноват в царившем семьдесят лет идиотизме. Это была революция великого русского народа и не-честно обвинять малые, завоеванные в разные времена народы. Так же, как немецкий народ «выпестовал» нацизм, так и русский народ выпестовал коммунизм. Эта мысль владеет сегодня умами многих интеллигентов. Мысль эта не популярна, но не раз она звучала и в самых дальних, глухих уголках России.
В этом болотистом крае северо-восточной Европы, в Вятской и Пермской областях, нашли свое последнее успокоение сотни тысяч людей разных национальностей. Сгинули здесь без следа. Ни в седьмом, нив четвертом, ни в тринадцатом и т.д. лагерях Вятлага, ни в «Сурмоге», «Устьморге», «Прижиме» Усольлага, ни в других лагерях под разными номерами и названиями нет даже примет кладбищ. Да и о каких кладбищах «врагов народа» может вообще идти речь, если и сегодня, когда прошло столько лет после войны, в лесах и болотах России и даже в полях лежат десятки тысяч павших и не захороненных солдат! Вместе с другими человеческими качествами в русском народе уничтожено уважение к мертвым. Даже к своим, что уж тут говорить о чужих. Откуда это? Так было только в советское время? После Полтавской битвы Петр первый запретил хоронить шведских солдат, и они сгнили там же, на поле битвы. Об этом было известно и раньше, об этом говорили в Соликамске, когда показывали так называемый «шведский дом», основательный, выстроенный из толстых бревен. Его после Полтавской битвы построили пленные шведы. Они так и остались навечно в Соликамске.
Помню, когда-то в Латвии было множество могил немецких солдат, погибших в Первую
мировую войну и во время Осво-бодительной борьбы. Сотни массивных невысоких
бетонных крестов. Где-то сто, где-то десять, двадцать. Могилы были ухожены,
почти все за выложенной из валунов оградой. Так и лежали солдаты, обретя вечный
покой, пока не напала орда русских варваров. Сейчас могилы разорены, сровнены с
землей. И в моем родном городе тоже. Даже массивные бетонные кресты разбиты в
щебень. Вероятно, это не так-то легко было сделать. Мне могут возразить - это не
только работа захватчиков - варваров, у нас у самих варваров хватает. Это
правда. Но эта вседозволенность, издевательство над святынями пришло с востока,
от народа, который в революционном восторге крушил свои святыни, а потом
принялся крушить чужие.
Несколько лет назад, путешествуя по своему родному краю Селии, где-то в
окрестностях Варнавы, на обочине извилистой лесной дороги я увидел могильную
ограду из валунов. Между воротных столбов сохранились выкованные из железных
прутьев воротца. Напротив них стоял небольшой памятник, на котором на немецком
языке было написано, что здесь похоронены павшие в 1917 году немецкие солдаты
(цифру не помню) и два русских солдата. Несколько рядов из разбитых могильных
крестов. Точно такие же кресты были и на могилах русских солдат, и тоже
разбитые. Еще можно было прочесть заросшие мхом слова на немецком языке:
«Неизвестный русский солдат».
Будут ли когда-нибудь восстановлены разрушенные варварами кладбища? Слишком многое придется восстанавливать, слишком многое вспомнить тем, кто забыл, узнать тем, кто никогда не знал. Нельзя забывать ни павших в бою, ни тех, кто погиб невооруженный в неравной борьбе с самым страшным врагом человечества - «красной чумой» - в бесчисленных вят- лагах, усольлагах, кизиллагах, тайшетлагах, ураллагах и прочих бесчисленных «лагах», которые несмываемым пятном останутся в истории России и на совести русского народа. Тысячи крестов должны стоять на этих многонациональных кладбищах.
Когда мы готовились к поездке и обсуждали текст памятной плиты, думали, не упомянуть ли, кроме граждан Латвии, о всех жертвах коммунистического террора. Но по какому праву? Кто нас уполномочил? К тому же ехали мы в один из самых темных регионов России. Мы не знали, что нас ждет. Между прочим, слово «коммунистический» в тексте было кое-кому не по нраву. Почему жертвы не Сталина, а коммунистического террора? И коммунизм, и Ленин были здесь все еще табу.
Я надеюсь, что настанет время, когда представители не одного или нескольких, а многих народов будут ставить памятные знаки, но делаться это будет общими усилиями. Возможно, великий русский народ возьмет инициативу в свои руки и вместо идиотского монстра победы начнет устанавливать кресты, возводить памятники и храмы, увековечивая память погибших на поле боя и в лагерях смерти и забытых соплеменников.
24 августа и в Боровском, когда-то пригороде столицы «Усольлага» Соликамска, был установлен шестиметровый крест. В его подножье была вмурована бронзовая плита с надписью на латышском, английском и русском языках: «Гражданам Латвии - жертвам коммунистического террора 1941-1953 гг.» Под плитой стояла урна с землей Латвии, цветами Латвии (высушенные, как гербарий) и нашим посланием прошлому.
Развевался красно-бело-красный флаг и звучал гимн «Боже, храни Латвию!»
Прибыл глава города и поздравил нас с завершением работы.
Мы свое дело закончили. Пора было собирать чемоданы. Проезжая в последний раз через Соликамск, я подумал, что после мрачного Кирова, после тонущего в грязи и в болотах Лесного и спившейся Перми старый, возникший в пятнадцатом веке патриархальный Соликамск сродни маленькому светлому пятнышку, хотя и здесь советская власть в течение семидесяти лет пыталась искоренить все человеческое, все красивое. Когда- то в Соликамске было девятнадцать церквей и два монастыря. Семьдесят лет делалось все, чтобы к этому святому месту заросли все тропы, чтобы ни одна дорога не вела к Храму.
Город возрождался. В Соликамске, как нигде, ощущалось то, что выразил когда-то один из великих мыслителей - ничто так не украшает город, как храмы. Соликамск один из тех городов, где с любого места видны несколько церквей. Восстановлен и действует женский монастырь и две церкви, остальные, по крайней мере снаружи, тоже имеют приличный вид - башни побелены, купола покрашены.
Перед тем как отправиться на вокзал, подъехали к кресту. Все свечи, которые мы оставили зажженными, исчезли. На бетонном основании видны были следы от мотоцикла. Зажгли оставшиеся свечи, постояли молча и направились на вокзал. За нами оставался крест, освещенный лучами заходящего солнца.
Ночь в поезде, и утром мы уже в Перми. Когда мы планировали нашу поездку, собирались на обратном пути добраться из Соликамска до Перми пароходом по Каме, если останется время. Но как говорится, человек предполагает, а Бог располагает. Времени у нас было достаточно, но пароходное сообщение по реке из-за нехватки горючего прекратилось еще несколько лет назад. В порту в Боровском видели стоящие на приколе сотни плавсредств разного калибра, и лежащих на берегу, и сиротливо плещущихся у самого берега. Не было слышно ни треска моторов, ни свистков дизельных судов.
После обеда сели в «скорый» и утром уже были в столице нашей бывшей большой «родины». Снова радушный прием в посольстве. До отхода рижского поезда в нашем распоряжении было несколько часов. Смыв с себя соликамскую пыль, мои товарищи решили совершить по Москве «круг почета». Я же был «в ауте» и оставшиеся часы провел лежа, анализируя события последних дней. Мысли вновь и вновь возвращались к латышской девочке Илзе, которая в Перми пришла проводить меня на поезд. Не девочка, конечно, женщина за сорок. Я помнил ее рижской школьницей лет тридцать назад. Илзе вышла замуж за русского летчика и оказалась в Перми. Жизнью она была довольна и не производила впечатление человека, которого следует пожалеть. Но мне было ее жаль. Я испытывал к ней чувство жалости, как к любому латышу, который вынужден жить на чужбине в это трудное для нашего народа время, неустроенное, полное горьких разочарований, интриг, некомпетентности на всех уровнях, демагогов всех мастей и тем не менее прекрасное, неповторимое время светлых надежд.
Покидая гостеприимное посольство, я бросил последний взгляд на миниатюрную церковку с посольском саду, и вспомнилось рассказанное гидом во время экскурсии в Литву о вильнюсской церкви св. Анны. Когда Наполеон Бонапарт увидел прекрасную церковь, он сказал, что хотел бы взять ее на ладони и увезти в Париж.
Я не хотел бы увезти в Ригу эту красивую церковку, пусть она остается в Москве, как символ культуры, благожелательности и веры нашего народа. Как подтверждение веры в Бога и в будущее нашего народа.
Я считаю, что все, что русская власть (не станем лицемерить и называть это советской властью) построила в Латвии за пятьдесят лет, не стоит одной этой построенной в Москве латышской церкви.
27 августа мы вернулись в Ригу. Экспедиция «Вятлаг - Усольлаг'95» свою задачу выполнила. Была достигнута давно намеченная мною цель. Возможно, кто-то подумает - ну, съездили, поставили два деревянных креста где-то в болотах России, ну что в том осо-бенного? На это могу только ответить - съезди и сделай то же. Или это вообще не нужно? Забудем все, все перечеркнем? Многое из того, что происходило в нашей истории за последние пятьдесят лет, стоило бы перечеркнуть, только не память об ушедших. Кто-то из великих мыслителей сказал, что весь мир состоит из живых и мертвых, только мертвых больше, и их нельзя забывать.
Вскоре после нашего возвращения в газете «Павалстни- екс» появилась уничижительная статья о нашей экспедиции какой-то деятельницы Рижского общества репрессированных. Мы якобы ездили на встречу со своими русскими друзьями, ставить кресты совершенно излишне, потому что так или иначе русские их сожгут. Можно считать и так. Каждый волен думать, как ему нравится и как подсказывает совесть. Только я знаю, что мы поставили бы эти кресты, даже если бы заранее знали, что их уничтожат после нашего отъезда. Вся округа знала, что латыши ставят кресты, знала, кому они их ставят. И долго еще будут жить они в людской памяти как латышские кресты. И не главное - сосновый крест, важна информация, которую несут эти памятные знаки сегодняшней России. Тысячи таких крестов должны стоять там, где лежат латыши.
Прошло полвека. Из памяти русских исчезло, вытравлено даже то, что случилось с их собственным народом, с миллионами русских, перемолотыми «красной мельницей», не говоря уже о нескольких десятках тысяч латышей.
Но прошлое исчезает и из памяти нашего народа. Память о прошлом искоренялась все последние пятьдесят лет. Лгали историки, учителя, государственные деятели. Лгали и родители своим детям, в лучшем случае ничего не рассказывали. А сегодня? И сегодня многое умалчивается. Еще и потому, что не знают, о чем рассказывать. И не хотят знать. В школах историю Латвии не преподают. Можно простить незнание, но нельзя простить нежелание знать. Возможно, когда мои воспоминания придут к читателю, все будет иначе? Дай Бог!
Многое было пережито во время поездки. Это было как «соприкосновение с вечностью». Мы были там, где была зарыта, уничтожена Латвия. И должно было пройти полвека, чтобы она возродилась. Но такой ли возродилась Латвия, какой должна, какой могла быть? Не стираются из памяти слова пережившего Вятлаг доктора Сильвестра Чаманиса: «Откуда у народа, лишившегося головы, появятся умные и хорошие люди, которые смогли бы создать новую Латвию?»
Голова у нашего народа была отрублена в ГУЛАГе.Там была уничтожена Латвия. Но если бы не было той Латвии, не было бы и Латвии сегодняшней. И в основу образа Латвии пришлось бы заложить историю гибели первой Республики и страдания, унижения, боль и слезы народа.
Кресты в Вятлаге и в Усольлаге стоят. И люди возлагают цветы к их подножью. И письма мне оттуда приходят.
Спустя некоторое время после возвращения я получил письмо от журналиста Виктора Бортникова, с которым мне так и не удалось повидаться во время поездки. Он прислал мне свою статью о нашей экспедиции, которая была напечатана в апреле 1996 года в кировской областной газете «Вятский край». Приведу несколько фраз из статьи.
(..) Они, латыши, никогда не любили нас, русских. А за что любить? За то, что мы, уничтожая себя, вырезали и их нацию? За то, что в 1940-м насильственно «освободили» их страну и развернули широкомасштабные репрессии? За то, что гнали в Гулаг взрослых и ссылали в глухие места Сибири их малолетних детей? И все же потомки тех, чьи кости лежат в Вятлаге, не испытывают к нам ненависти (..)
Да, они помнят. У нас же, русских, короткая память. Корот-кая, наверное, потому, что нас много - убивай сколько хочешь, всех все равно не перебьешь. А их, латышей, - всего горстка, поэтому они, наверное, и не могут забыть и вряд ли когда за-будут, что значительную часть их нации уничтожили именем советской власти. Мы же русские, вовсе обеспамятели - даже те, чьи деды, отцы и матери оказались растерты в лагерную пыль. А ведь таких были миллионы! (..)
Деревянный крест, водруженный латышами прошлым летом с помощью учреждения, стоит. А будет ли, как планировалось, памятник? (..)
Всей мощью многотысячного коллектива учреждения и при заинтересованности областной власти не суметь сделать то, что смогли всего несколько стариков, приехавших из Латвии на несуществующие могилы своих отцов».
Вот о чем размышляет русский интеллигент.
Приходят письма и из Соликамска. И там наш крест стоит, и место это теперь считается территорией кладбища, и люди возлагают цветы к его подножью. И там думают о возведении памятника и просят у нас совета. Я написал, что, по-моему, их памятником может стать часовня, какие испокон века строились в России на месте печального или счастливого события. Такая часовня поставлена в Норильске, у подножья горы Шмидта, не-далеко от увековеченного экспедицией Айнара Бамбалса места. И здесь все в полной сохранности. Стоит и крест, воздвигнутый в 1990 году на берегу Енисея в Агапитово.
11 ноября того же 1995 года на Лесном кладбище в присутствии архиепископа евангелическо-лютеранской церкви Яниса Ванагса у подножья Белого креста мы высыпали привезенную из Вятлага и Усольлага землю. Собралась небольшая группа людей - политически репрессированные и некоторые старые члены правления НФЛ.
В это время Президент страны, председатель Сейма и со-провождавшие их лица после торжественной церемонии на Братском кладбище направились к своим лимузинам. Надо было пройти всего сто метров, потратить всего полчаса, чтобы подойти к подножью Белого креста и вместе с политически репрессированными преклонить голову перед памятью тех людей, которые создали независимую Латвию.
Стоят кресты в Лесном и Соликамске, Норильске и Воркуте. Стоит памятник в Инте и крест в Агапитово. А когда будет памятник в Риге? Вопрос о памятнике жертвам коммунистического террора поднимался в самом начале Атмоды, в самом начале движения политически репрессированных. В первый же раз, когда отмечалась годовщина депортации, начался сбор средств на памятник. Собрали солидную сумму, но ее постигла та же судьба, как все накопления (я считаю, что государство обязано возместить эту сумму). Первый конкурс, если не ошибаюсь, был проведен в 1991 году. Потом был еще один и после большого перерыва еще один конкурс - в 1997 году. Проекты были выставлены в Доме архитекторов на обсуждение. Осматривая выставку, я в первые же минуты вспомнил сказку Андерсена о двух жуликах, которые взялись из ничего сшить платье для короля, увидят которое только умные люди. Никому не хотелось признаться в собственной глупости, только маленький мальчик закричал: «А король-то голый!» Первое место и денежная премия в несколько тысяч латов была присуждена камню, закрепленному в земле проволокой. Вспомнился случай из похода по Карелии, когда после плаванья по Охте кто-то прибил стоптанную кеду к пню и мы, «валяя дурака», ходили вокруг, изображая знатоков и оценивая композицию как произведение искусства: «Ах, какая экспрессия! Это ранний Роден или поздний Гоген?..» (Возможно, и Малевич, рисуя свои знаменитые квадраты, и черный, и красный, только издевался над наивными ценителями искусства.)
Я далеко не консерватор, не приемлю категорические оценки в искусстве и если чего-то не понимаю, не стану огульно отрицать, но в данном случае, когда создается памятник жертвам репрессий и когда многие пострадавшие от террора еще живы, необходимо проявить деликатность, принцип «искусство для искусства» здесь недопустим. Все должно быть ясно и понятно. Памятник должен быть таким, чтобы сердце рвалось на части - это памятник жертвам, напоминание о самом большом народном горе.
В 1998 году состоялся еще один конкурс и выставка проектов в театре Дайлес. Здесь уже были представлены серьезные работы, и достаточно, можно было выбирать, и если не какой-то один проект, то, по крайней мере, скомбинировать из нескольких. На мой взгляд, наиболее подходящим был комплекс скульптур (Страшному году, движению сопротивления и солдатам) в аллее напротив Кабинета министров.
После последнего конкурса и выставки, думается, больше не стоит говорить о конкурсе 1997 года, однако ясности, что, где и когда будет, по-прежнему нет никакой. Я вообще не стал бы касаться темы памятников, если бы не вопрос, которому я хочу уделить несколько строк.
В то время, когда годами, с регулярными перерывами, обсуждается вопрос о памятнике репрессированным, когда состоялось несколько безрезультатных конкурсов, на Большом кладбище ведется конкретная работа по увековечению памяти политически репрессированных - восстанавливается красивая полуразрушенная капелла. Капелла в 1989 году была передана евангелическо-лютеранской общине Воскресения при Рижском клубе политически репрессированных. Тогдашнее правление клуба, которым руководил Игорь Носков и в составе которого было большинство членов общины, высказало предложение (которое обсуждалось и получило одобрение на общем собрании клуба), что восстановленная капелла могла бы стать местом увековечения памяти погибших во время репрессий, мемориалом памяти и центром политически репрессированных всей Латвии. По идее Носкова, перед капеллой должен был быть воздвигнут крест. Уже ушедший от нас скульптор Игорь Васильев взялся его сделать. На стенах капеллы предполагалось создать своего рода колумбарий, где можно было бы хранить урны с землей, привезенной с мест захоронения жертв террора. А поскольку этот комплекс (крест и капелла) расположен в удобном месте, его можно было бы включить в специальный экскурсионный маршрут «Музей оккупации - Капелла - Братское кладбище».
Капелла восстанавливается благодаря усилиям и энтузиазму небольшой группы репрессированных (все заботы легли на плечи главным образом главы общины Дзинтары Петерсоне и архитектора Тамары Агрини) и на пожертвования зарубежной евангелическо-лютеранской церкви. Надеюсь, что когда моя книга попадет в руки читателей, работы по восстановлению капеллы будут завершены (хотя в самом начале мы столкнулись с равнодушием со стороны государственных учреждений и многих репрессированных и даже с противодействием некоторых функционеров). Восстановление каждой церкви в Латвии уже является событием, а возрождение капеллы общины репрессированных, по-моему, тем более. Еще раз хочется повторить, что капелла возродилась из руин без громких речей и шума, без умных рассуждений и конкурсов, на которые бездумно тратятся большие средства.
Я не знаю, где и когда будет установлен памятник репрес-сированным, но на
Большом кладбище памятник будет. Будет стоять возрожденная репрессированными
капелла, будет крест и будет колумбарий, куда, возможно, и наши потомки поместят
урну с землей, под которой лежат кости латышей.*
-------------------
* Свои воспоминания я закончил писать в 1999 году. Но время не стоит на месте, жизнь продолжается. Летом 2000 года была освящена и начала действовать восстановленная капелла общины политически репрессированных на Большом кладбище, 10 июня 2001 года в нише внешней стены капеллы было открыто место памяти жертв коммунистического террора. 14 июня 2001 года был установлен и памятник репрессированным. На мой взгляд, не такой, каким ему надо было быть, и не там, где он должен был стоять. Но об этом пусть судят те, кто придет после нас.
Вначале я думал ограничиться написанием двух частей - высылкой в 1941-м и высылкой в 1949 году. Но время было настолько интересным, так насыщено событиями, что я не смог преодолеть «графоманский зуд» и решил продолжить. Мой рассказ был бы не-полным, если бы я не назвал мои «звездные часы» - вытесанные мною и воздвигнутые за Полярным кругом в Агапитово, Лесном и Соликамске кресты. Одним «звездным часом» больше, вероятно, я могу считать вручение мне ордена Трех Звезд 1996 году. В 1998 году награды были вручены и моим товарищам. Я испытываю большое удовлетворение не столько от самой награды, сколько оттого, что хотя бы на президентском и правительственном уровне оценено то, что все годы мы (к сожалению, немногие) считали чрезвычайно важным фактором для возрождения Латвии. Но дороже всех наград были для меня слова благодарности от моих товарищей по судьбе. С большой теплотой я буду всегда вспоминать незнакомую женщину, которая подошла ко мне на улице, пожала мне руку и со слезами на глазах поблагодарила за крест, поставленный в Вятлаге, где остался лежать и ее отец.
И когда я перелистывал записные книжки, просматривал записи на отдельных
листках и «на манжетах», перебирал в памяти минувшие события, родилась мысль
написать третью часть.
Многое еще случится, и я надеюсь, что стану свидетелем интересных событий, но в
моей жизни ничего особенного произойти уже не может. Скорее всего, никаких
путешествий, поездок больше не будет. А нужно и хотелось бы сделать еще многое.
Когда-то, устанавливая крест в Агапитово, мы с Зигисом рассуждали о том, что
неплохо бы укомплектовать туристскую группу, зафрахтовать в Красноярске моторку
и, спускаясь вниз по Енисею, ставить кресты в тех местах, куда когда-то были
сосланы и где умирали латыши. Одного лета бы не хватило. Можно было бы оставить
где-то лодку и на следующий год продолжить путешествие. Команды могли бы
меняться, но в этих поездках, вероятно, участвовали бы в основном бывалые
туристы, не обремененные работой пенсионеры. Очевидно, замысел этот так и
останется «голубой мечтой». Не сделаем этого ни мы, ни наши потомки. Но недавно
родилась идея, для осуществления которой нужно только желание. Это вторая
экспедиция в Лесной и Соликамск, и может быть, дальше, по лагерям Урала (куда
прежде следует съездить с разведывательными целями). В экспедиции могли бы
участвовать несколько десятков человек - родственники погибших в тех местах. Все
должно происходить на официальном уровне - с участием дипломатов и
государственных деятелей с той и с другой стороны, а может быть, и
представителей западных стран, чтобы и они видели, куда привела народы Балтии
«дальновидная» политика их бывших правителей. Утопия? Невозможно? Невозможно
все, если ничего не пытаться делать.
После экспедиции в Вятлаг я три года продолжал получать оттуда списки погибших граждан Латвии. Только во время следствия там умерло 1603 человека и после суда - 734 человека. Есть и списки эстонских граждан. Из них до суда умерло 293, после суда 53 человека. То есть, из 3174 балтийцев в болотах Вятлага осталось лежать 2673 человека. Существует и список так называемых этнических латышей. Тех, кто оказался в Вятлаге в 1937 году, в самом начале геноцида латышского народа, было 251. В списках не только имена и фамилии, но и все даты из картотеки, введенной в компьютер. Описи списков переданы в Музей оккупации и в Государственный архив. А что дальше? Списки ведь только из одного места заключения - из Вятлага. А таких мест заключения были десятки. Может быть, не везде картотеки сохранились? Возможно. Но, скорее, сохранилось большинство. И получить копии списков можно. И, пожалуй, таким же путем, как это сделали мы. Но нужно ли это вообще? Перечеркнем все и начнем историю Латвии с чистого листа? Еще в самом начале Атмоды шла речь о том, что надо выставить России счет за всех погибших в местах заключения Советского Союза граждан Латвии. Все имеет свою цену. В конторах то ли ООН, то ли ЮНЕСКО подсчитали, сколько стоит жизнь человека. Американцы заплатили многие миллионы за жизнь японцев, репрессированных ими после поражения флота под Перл-Харбором. Речь идет не о каком-то материальном возмещении, но о признании своей вины. Дела у русских довольно плачевны, гораздо хуже, чем у нас. Но не будет у русского народа счастья, пока он не сделает две вещи: не предаст Ленина земле, не уберет все его памятники и прочее, что связано с этим монстром, и не попросит прощения у всех пострадавших народов и станет за них молиться. Народ, нация не виноваты? А как же с постулатом Маркса - нет для нации большего несчастья, чем порабощение других народов ? Маркс ведь по-прежнему кумир большинства русского народа, как все Ленины, Дзержинские, Кировы и даже грузинский бандит- параноик. Но покаяния нет. Есть только вечное прославление собственного величия и исторической избранности. Религиозность для большинства русского народа пока лишь маска. Но без покаяния не может быть и прощения.
У моего повествования есть подзаголовок «Приключения везучего человека». Вначале я написал «счастливого», но потом подумал, что после всего пережитого надо быть полным идиотом, чтобы считать себя счастливым. А вот везучим - да. Мне кажется, прочитавший мои воспоминания сделает вывод, что мне всю жизнь везло. Замерзал - не замерз, тонул - не утонул, медведи меня не съели, то, что хотел, я сделал и всегда в трудную минуту ощущал поддержку хороших людей. Жить мне довелось в трудное, но интересное, насыщенное переменами время. И часто мне выпадало счастье быть там, «где что-то происходило». Я стоял на баррикадах, стоял с красно-бело-красным флагом у памятника Свободы и на Братском кладбище у образа Матери, на башне Святого Духа я поднимал флаг на флагшток, с Латвийским флагом я прошел по берегам Енисея и по российским лагерям смерти. Мне действительно везло в жизни!
А как же ненависть? Отмщение? После всего прожитого и пережитого, после всего увиденного? На этот вопрос не только мне, но многим, пострадавшим за пятьдесят лет оккупации, приходилось в первые годы Атмоды отвечать не один раз.
Русский писатель Александр Солженицын пишет: «...не может строиться общественная жизнь на ненависти. А кто из года в год пламенел ненавистью, не может с какого-то одного дня сказать: шабаш! с сегодняшнего дня я отненавидел и теперь только люблю. Нет, ненавистником он и останется, найдет кого ненавидеть поближе».
Нет у меня ненависти ни к чужой стране, ни к его народу. Ненависть была в юности, и тогда, очевидно, она была нужна. Возможно, слишком слабо прививали нам ненависть к большевикам в детстве. Если бы русских ненавидели так же, как немцев, возможно, в 1940 году все было бы иначе. Но ненависть, зло, которые человек хранит всю жизнь в своем сердце, разрушают его самого, его ум и сердце. Ненависть порождает месть. Но кому мстить? Внукам и правнукам? До седьмого колена? Пусть это остается во власти Бога. И если меня всю жизнь преследует мысль об ответственности русского народа за причиненное им зло другим народам, о необходимости переоценить прошлое, о раскаянии, то нет в этом ни капли ненависти, а скорее сочувствие к народу, ко-торый до сих пор не только не покаялся, но и ничего не понял. Не понял, что на деле не принес ничего хорошего другим народам. Ни одному! И остяки и чукчи на Таймыре и в Колымской тундре, и таджики и калмыки в своих степях и пустынях были бы в десятки раз счастливее без навязанной русскими царями культуры и религии, без красных чумов и юрт, навязанных им коммунистами, как и латыши были бы гораздо счастливее «на деревьях и в своих пещерах», где обитали до «освобождения» в 1940 году. Самая большая ошибка русского народа в том, что он всегда считал себя лучше и умнее других. Да не лучше он, не умнее! Но кто скажет русским это, если не я, будучи сам наполовину русским? Однако есть у этой медали и другая сторона.
Очень популярен в то время был лозунг: «Русские, вон из Латвии!» Идеологи ТБ даже предрекали, что в две тысячи не знаю каком уж там году русских в Латвии вообще не будет. От всех этих призывов и предсказаний веяло такой ненавистью, что нередко закрадывалась мысль об утрате этими людьми остатков разума. Вероятно, кого-то можно было понять. Многое произошло за пятьдесят лет оккупации! Чья-то жизнь была совершенно искалечена. Были сломленные. Война, годы заключения: у кого десять, у кого пятнадцать или все двадцать пять. Потеряно было все: близкие, имущество, здоровье. А через десять лет, проведенных в заключении, и последующей ссылки еще и статус гражданина второго сорта на всю жизнь. Однако зачастую ненавистью пылали люди, не так уж и пострадавшие, успевшие получить и высшее образование, и даже ученые степени.
Безусловно, самым идеальным вариантом был бы такой: если бы одновременно с обретением независимости и уходом русской армии нашу страну покинули бы и те, чье появление было вызвано политикой индустриализации и русификации. Но ведь людей других национальностей привели в Латвию разные пути, разные причины, потому и отношение к их присутствию не может быть однозначным. Во всяком случае, Латвию должны были бы покинуть все, кто пришел сюда с оружием в руках. А их дети и внуки, родившиеся здесь? Их тоже выслать? Выслать с родины, как когда-то выслали нас с родины? Как они, так и мы? «Око за око, зуб за зуб»?
Живут в нашей стране и те, и таких большинство, кто не имеет никакого отношения к «освободителям» ни 1940-го, ни 1945 года. На строительство крупных заводов и энергетических объектов в Латвии вербовались рабочие со всего Советского Союза, и наивно было бы требовать от простого, не знающего истории, не слишком обремененного могучим интеллектом советского гражданина, чтобы он колебался, когда ему предлагают «длинный рубль», да не где-нибудь в Африке, а здесь же, в Советском Союзе, а значит, в России, чтобы где-то на побережье Балтийского моря строить Плявиньскую или Рижскую ГЭС. И они построили то, что им велели, нужное и ненужное и даже вредное. И квартиры себе строили, и клочки земли обрабатывали, и детей нарожали. Им и в голову не приходило, что живут они в чужой стране, завоеванной когда-то их воинственными соплеменниками, а не в освобожденной стране.
Среди людей других национальностей, которым как бы не надо было здесь находиться, есть и те, кто, получив высшее образование, были присланы в Латвию как «молодые специалисты». И те, кто душой и сердцем приближали наше возрождение, стояли вместе с нами на баррикадах.
Разные люди есть среди нелатышей, и, возможно, если в некий роковой час X в Латвию вошли бы русские танки, они снова встретили бы их цветами и поцелуями, как в 1940 году. Так тоже может быть. Но, во-первых, вряд ли такое когда-нибудь случится, и, во-вторых, стоит ли из-за столь ничтожной вероятности все время пребывать в страхе, исходить ненавистью?...
Свое повествование я завершаю на рубеже столетий. Многое в своей «везучей» жизни мне пришлось пережить. И гибель Латвийского государства, и пятьдесят постыдных лет оккупации, и предательство, унижения, отчаяние, но мне посчастливилось родиться и провести детство в свободной Латвии, жить в «ул- манисовские времена» - самые светлые годы в истории Латвии, дождаться третьего пробуждения народа и восстановления Латвийского государства. Но такая ли она, возродившаяся сво-бодная Латвия, какой должна и могла быть? На что надеяться? Чего ждать? Каких чудес ждать нам от тех, кто взял на себя ответственность за наше будущее?
Сегодня довольно проблематично высказать мысль, отличную от той, которая уже не была бы высказана, так что, не претендуя на открытие, я все же хочу повторить, что любой политик, государственный деятель высокого ранга, во-первых, в той или иной степени авантюрист, во-вторых, думает он прежде всего и главным образом о себе. О своей карьере, о своем кошельке. А интересы государства и народа стоят далеко позади «интересов тещи».
Но бывают в истории счастливые случаи, когда интересы государственного деятеля
совпадают с интересами страны и народа. На мой взгляд, такое счастливое
совпадение интересов и желаний некоторых политиков и большинства народа
произошло в Латвии в 1934 году. И никакие домыслы историков, политиков и
журналистов не смогут переубедить в обратном тех, кому посчастливилось жить в
то время, и тех немногих, кто серьезно и глубоко изучил документы и
свидетельства очевидцев тех лет.
Посчастливится ли моему поколению пережить нечто подобное? Найдутся ли
политики, чьи интересы совпадут с интересами народа? Обладающие при этом
достаточной степенью интеллигентности, высоким интеллектом, богатые как духовно,
так и материально, чтобы думать не только о собственном благополучии, но и о
благополучии народа? Такие, кого волнует, как каждый их шаг отзовется в истории,
в памяти потомков? Такие, кто, как Карлис Улманис, мог бы сказать:
Кто отважен и честен,
чьи сердца бескорыстны,
кому народ ближе, чем друг,
тот будет со мною! будет со мною
строить увенчанную бессмертной славой Латвию!
И этому человеку мы не только не поставили памятник, мы даже точно не знаем, где покоится его прах. И на это махнули рукой. Но разве народ, который не ценит свою историю, у которого нет героев, с кого брать пример, - разве такой народ способен построить свое Государство?
Многое в моих воспоминаниях осталось «за кадром», о многом я умолчал. Было немало и такого, о чем не хочется вспоминать. Были минуты слабости и малодушия, я был нетерпим и несправедлив. Совершал ошибки, о которых всю жизнь сожалею. Только нет на моей совести ни подлого поступка, ни предательства.
За кадром осталось и много прекрасного. Незабываемые путешествия, красивейшая
природа, реки, озера, горы, интересные люди, друзья, семья и любовь. Любовь к
женщине и женская любовь - «праздник, который всегда с тобой».
1988-1999 гг.
Использованные материалы и литература
Дневники Ливии и Маргариты Краукстс
Записная книжка Бируты Казаке
Виктор Бердинских. Вятлаг. Киров. 1998
Дмитрий Панин. Лубянка - Экибастуз. М. 1991
Ояр
Вицупс. Черная книга. Рига. 1931
Содержание
Анда Лице. В свете правды 3
Такие были времена
(записки везучего человека) 8
Часть 1
В тундре и в тайге 15
Часть 2
Persona non grata 237
Часть 3
Время светлых надежд
Илмар Кнагис (1926) - один из основателей организации репрессированных Латвии и фонда
«Дети Сибири». С 1987 года возглавлял организованные им
экспедиции по исследованию мест ссылки латышей и увековечению памяти погибших.
В 1996 году за заслуги к деле увековечения памяти сосланных был награжден
орденом Трех звезд, Награжден почетным знаком защитника баррикад.
Тяжкая судьба постигла наш народ в XX столетии. Чужие, враждебные власти, чужие
войны и революции разметали сотни тысяч латышей по всему миру. И почти всех моих
школьных товарищей; друзей детства, родственников. Они оказались в Англии и в
Австралии, в США и Германии, в Канаде и Новой Зеландии. Многие лежат в
Волховских болотах и в песках : Курземе. Многие погибли в немецких и русских
лагерях смерти. Целые семьи были рассеяны по всему свету. И моя семья тоже. Мой
дед Давис Кнагис погиб е 1920 году в России, куда попал беженцем. Бабушка Минна
Кнагис, тоже беженка, умерла в Германии в 1945 году. Отец ; ЭмильКнагис -погиб
в 1941 году в русском лагере смерти «Вятлаг».Брат
отца Альберт умер в Англии. Их памяти посвящаю я эту книгу.
Илмар Кнагис