


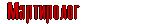
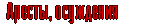



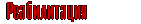
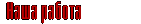



Это было с бойцами, или страной, или в сердце было в моём
В. Маяковский.
Летом 1942 года Евгения Дмитриевна Куриленко, учительница начальных классов, только что окончившая Томское педагогическое училище, была направлена в Туруханский район. К этому моменту у Евгении уже было двое детей: девочка восьми и мальчик пяти лет.
Заведующая Туруханским районным отделом образования, уже седеющая дама, с жалостью смотрела на молоденькую женщину и её замерзших ребятишек:
-– Поезжайте-ка Вы в Ангутиху, отпаивайте там своих детей молоком – решила она.
На словах всё было красиво. А наделе... Работа в Ангутихе оказалась отнюдь не лёгкой. В одном лице Евгения Дмитриевна стала и заведующей школой, и учителем сразу четырёх начальных классов. Сама школа состояла всего лишь из одной комнаты, в которой разместилось четыре ряда парт, в каждом ряду по три. Первый ряд предназначался для учеников первых классов, второй – для второклассников и так далее.
Как раз в первом ряду сидела я, первоклассница и, одновременно, дочь учительницы. Начало войны помешало мне пойти в школу, в семилетнем возрасте, как положено. Мы жили в Рязани, а немцы, рвавшиеся к Москве, бомбили наш город с самолётов. Тогда было не до учёбы… Несмотря на свой восьмилетний возраст, я знала лишь одну букву – «У». Но, как оказалось, ничего страшного в этом не было. Изучение «Букваря» давалось мне легко, поэтому на уроках я сидела, что говорится, развесив уши. Гораздо интереснее было слушать всё то, о чём говорили вокруг за другими рядами, особенно за таким далёким, четвёртым...
Маме было трудно. Приходилось объяснять новый материал, закреплять его, спрашивать домашнее задание, проверять, как усвоен урок. И всё это в каждом из четырёх классов.
Вспоминаю такой эпизод: мама стоит перед нами, первоклассниками, в руках у неё маленькая машинка. Она спрашивает.
-– Сколько колёс у автомобиля?
Ни первая, ни вторая парта не смогла ответить. Доходит очередь до меня, встаю и тоже молчу, поражённая лицом мамы, сердитым, красным и… несчастным. А ещё я обнаружила, что у неё появилась седина. Да, с 26 лет мама начала седеть...
Вскоре стало понятно, что учить одновременно четыре класса маме не под силу. Мы перешли на занятия в две смены. Для школьников это бесспорно было плюсом. А вот рабочий день матери увеличился. Вечером она приходила домой усталая, но вместо отдыха садилась за проверку наших тетрадей, потом готовилась к урокам следующего дня. Мне же наступило приволье...
Я очень любила мыть полы. Но тряпка меня не слушалась – полы были не крашены. По местным обычаям половицы скоблили ножом или тёрли голиком с песочком, до желтизны. Жили мы во второй половине дома, где размещалась школа. Отдельный вход, железная печка и две комнаты, одну из которых занимали мы, а во второй жила молодая женщина с грудной дочкой. Училась я в первую смену, после обеда была дома. Бывало, ведя вторую смену, мама отправляла одного мальчишку то за мелом, то за книгой, то за чем-нибудь ещё. А он, прибегая, всё время грозился
-– Вот скажу матери, что ты всё время пол моешь!
Он уходил. А я, второпях, застилала мокрые половицы.
Очень скоро я научилась читать. Чтение казалось чудом: буквы складывались в
слоги, слоги в слова, слова в предложения. Казалось, что кто-то подсказывал мне
всё это. Книги, прочитанные в первом классе, не забылись до сих пор: маленькая
повесть «Комната под чердаком», «Козетта» и многие другие. Чтение стало счастьем
на всю жизнь, определив в дальнейшем мою профессию – сорок лет я преподавала
русский язык и литературу, влюбляя в эти предметы своих учеников.
Чтение стало моей радостью и моей бедой.
-– Опять уткнула нос в книгу? – часто слышала я от матери.
А ведь мне надо было трудиться, помогать по дому маме, которая всегда работала в две смены – двух детей надо было прокормить и одеть. Но она не плакала. Видела я её в таком состоянии лишь однажды, когда наш сосед неожиданно переехал к родственникам, чтобы заморозить тараканов. В самый мороз за стенкой не топилась печь, тараканы из всех углов валились на пол. Именно в это время в подполье помёрзла наша картошка. Но тогда плакали все трое: мама, я и братик. Ту зиму мы, как бы то ни было, пережили, хотя на продуктовых карточках можно было только голодать. Но терпели. Шла война. И хотя газет тогда не читали, мы всё равно были в курсе, что дела на фронте шли тяжело. Откуда? От радиста. Да ещё работала почта, там аккумулировались все новости. Вести с войны интересовали каждого. Мы знали героев и, конечно, верили в победу.
Хочу написать о женщине, которая как-то была связана с именем самого Сталина... Она переехала в Ангутиху и работала техничкой в нашей школе. Убирала классную комнату, топила печь, отгребала снег от двери, над которой не было даже козырька, да и крыльца-то самого не было. Я никогда не видела её за работой. Но в классе всегда было чисто и тепло. От мамы я слышала, что она очень красивая женщина. Но сама я, в своём возрасте, не видела в ней, сорокалетней, ничего привлекательного.
А мама, между тем говорила кому-то:
-– Неужели Сталин не может ей помочь, ведь она так бедно живёт! Дмитриевна, расспроси ты её про него, может, что и расскажет тебе.
Но Дмитриевна расспрашивать не стала. Да я и не думаю, что Лидия Платоновна, так звали эту женщину, стала бы что-нибудь рассказывать. Наверняка, её строго предупредили, когда она, как говорили в деревне, летала в Курейку, чтобы принять участие в оформлении музея Сталина. К тому же, Лидия Платоновна по характеру была сдержанным человеком, что присуще настоящим сибирякам.
Всем известно, что Иосиф Виссарионович Джугашвили с 1914 по 1917 годы был сослан в Курейку, в самый северный станок Туруханского района. На постой его определили в семью, где жили братья с младшей сестрой Лидой, шестнадцати лет. За три года ссылки у Иосифа и Лиды родились дочь и сын. Как только в семнадцатом году до Курейки дошла весть о революции, Джугашвили уехал в Москву. Говорили будто бы звал Лиду с собой. Но, как было на самом деле, не знаю. Знаю, хотя опять только по слухам, что дочка Лиды умерла в возрасте трёх лет. Я видела её на фотографии, что висят обычно в рамочке в переднем углу большой комнаты. Девочку на фото рассматривала внимательно: тёмные волосы до плеч, карие глаза, просторное платьице до колен... Кто-то из взрослых женщин, может быть сама Лидия Платоновна, держала девочку за руку. Я во все глаза смотрела на девочку, она очень походила на Сталина.
Слышала я и о внебрачном сыне вождя. Как будто бы Сталин, когда мальчику исполнилось шестнадцать, прислал за ним человека, чтобы увезти в Москву. И будто добрались они уже до Красноярска, а мальчишка взял да и сбежал домой, в Курейку. Как уж он добирался, неизвестно. Слухи, есть слухи. Но когда взрослые рассказывали эту историю, то обязательно добавляли как бы в назидание: «Вот, отец не тот, кто родил, а тот, кто воспитал». Теперь, зная Лидию Платоновну, я уверена, что это она шепнула мальчику, чтобы тот всеми правдами и неправдами вернулся домой. Если так, то правильно сделала.
На каком-то году после отъезда Сталина, Лидия Платоновна вышла замуж за местного охотника и переехала в Ангутиху, где прожила всю оставшуюся жизнь. Я знала трёх её дочерей от брака с Давыдовым. Старшая, её звали Устьей, полная замужняя женщина, жила отдельно, работала почтальоном. Про неё говорили: «Устья уже в дом вошла, а зад её всё на улице». Вторая дочь, Ольга, не в пример старшей сестре – худенькая, белокурая, очень подвижная. Младшая, Валя, тихая, молчаливая девочка, была моей подружкой. Она, на два года старше меня, училась уже в третьем классе, хотя была очень слабенькой. Мама поручила выучить её быстро читать и помочь разобраться в истории. Хотя, я до сих пор уверена, что вряд ли ей чем-то помогла.
О самом Давыдове, муже Лидии Платоновны, я ничего не знаю, кроме того, что он был призван в трудовую армию, впрочем, как и другие охотники пожилого возраста. Но из трудармии в деревню никто не вернулся, во всяком случае, я не слышала.
Время шло своим чередом. Поздно светало, рано темнело, да и с фронта приходили невеселые известия. Шла зима сурового 1942 года. Ангутиху по крыши занесло снегом. Тут ещё случилось событие – приехал контуженый боец, красивый молодой парень, очень высокого роста, сам не из местных. Стал работать помощником продавца. Надо сказать, что во время войны продавец в деревне был очень уважаемым человеком, ведь в руках у него были продукты. Хлеб тогда взвешивали на весах, часто с маленьким довесочком, и всегда было большое искушение съесть этот маленький кусочек, пока несёшь домой. Продавец у нас была женщина средних лет, очень уверенная в себе, эвенка по национальности, а фамилия, кажется Ламбина, а вот как звали, не помню даже. Конечно, она сразу закрутила с парнем, который стал её помощником, роман. Но как-то ей понадобилось ехать по делам. Уезжая, она предупредила деревенских баб, что если кто приблудится к её милому, ту убьёт. Закончилась вся эта история печально. В отсутствии Ламбиной приехала из Туруханска молодая инспектор, и, как назло, сразу с продавцом у них любовь случилась. Когда вернулась Ламбина, и всё узнала, убила разлучницу, вернее зарезала её ножом в спину. Конечно, убийцу осудили и отправили в Норильск. Но, даже перед тем, как быть отправленной в заключение, она успела передать матери, в которой винила свою соперницу. Вот так, шла война, а человеческим страстям было не до неё. Бушевали они вовсю.
А между тем, в моей жизни тоже произошло не совсем приятное событие. Связано оно было с молоком, которое мы покупали по пол-литра, через день. Помню, выбежала я на улицу без рукавиц, а там мороз страшенный. Но возвращаться в дом поленилась. Пока бежала за молоком, руки в карманах держала, а вот обратно... Несу банку, а руки просто отмерзают. Я ставлю банку на снег, прячу их под пальто, чтобы они согрелись, но всё тщетно. Моя лень вылезла мне боком – с высокой температурой я слегла в санчасть. Чем лечили, не помню, знаю только, что с медикаментами была огромная проблема. Помню, что мама привела в палату председателя колхоза, он увидел, что на моей тумбочке лежит нетронутый хлеб, и сразу же дал подводу, на которой меня повезли в горошихинскую больницу.
Дело шло к весне, наст лежал хороший, и в Горошиху можно было добраться без проблем. Уезжали вечером, я лежала на санях, в сене, вся закутанная в одеяла, а надо мной сияли огромные северные звёзды. По дороге зачем-то заехали в Канащель. До сих пор не знаю, откуда пошло название этого станка и как правильно писать его. Ещё не так давно читала в «Маяке Севера», что нынче живёт здесь всего лишь одна семья, в маленькой избушке. А тогда мы вошли в большую комнату, где на нарах спали люди. Сквозь тусклый свет лампы мне удалось разглядеть, что на плече у одного из мужчин покоится голова женщины.
В горошихинской больнице мне стало совсем худо, лежала вся в бреду. Как потом рассказала мама, сразу после моего отъезда, она написала в Горошиху одной знакомой учительнице письмо, чтобы та, по возможности, подкармливала меня. Я помню, как мне принесли печёные крендели, но есть я их не смогла. Было очень плохо. Так и простояли гостинцы весь день на тумбочке возле кровати. А ночью мне всё время мешал спать какой-то хруст. Я поняла, что это санитарка жуёт мои крендели. Уже потом, живя в Горошихе, я прекрасно знала эту санитарку. Её и всю её большую семью. Уважением они не пользовались. Бедными и голодными тоже не были. Кто-то из них успешно охотился – мы даже покупали у них зайцев-ушаков. И корова у них была. Да Бог ей судья, этой санитарке. Зато лечащий врач, Эльза Ивановна, была замечательная. Сама худенькая, невысокая, черноволосая, она всю себя отдавала больным. А моя болезнь была очень серьёзной. Плеврит. С тех пор на лёгких след остался. До сих пор, когда в больнице делают снимок, расспрашивают, как я тогда смогла пережить это заболевание. Действительно, справились мы с этой бедой непросто. Каждую зиму были обострения, и мама на саночках возила меня в больницу. А Эльза Ивановна лечила и, что самое главное, вылечила!
Но это всё было потом. А пока я продолжала лежать на больничной койке. Мне полегчало. Я огляделась. Оказывается, вся больница состояла из одной палаты. Нас, больных, было четверо. Лежал парень лет четырнадцати, весь обмороженный. Он всё время просил у санитарки чая, а она только сердилась. Ночами я просыпалась от кашля старика. Худой, он стоял в исподнем белье и пытался откашляться, а в груди у него всё свистело и клокотало. Четвёртой больной была молодая женщина. Все её считали сумасшедшей, так как она умудрилась выйти замуж за эвенка. Может быть новая кочевая жизнь и довела её до больницы. Как бы то ни было, вот такой странной и разношёрстной компанией мы мирно переносили все тяготы болезни. Даже умудрялись играть в карты.
Пришло время выписываться. Мне сказали, что какое-то время придётся пожить у
медсестры, пока моим родным не сообщат о выписке. Но этого не случилось. Так как
за мной пришла подвода из Ангутихи. Пишу, и всё больше убеждаюсь, что, несмотря
на войну, почта работала очень хорошо. Иначе как бы в деревне так быстро узнали,
что я уже выздоровела.
Домой собирались очень быстро. Хорошо, что Енисей ещё не тронулся, дорога
пролетела быстро. И вот уже в Ангутихе бедный конь тянет сани по весенней
распутице на угор. Я одна в санях и мне страшно. Кажется, что конь вот-вот
скатится назад и всей тушей прямо на меня. Но кляча выволокла...
Дома, в соседней комнате, где жила молодая женщина, тяжело болела её грудная дочка. Девочка плакала и плакала. Я, как могла, нянчила её, таская на своих худых руках. Мамы девочки обычно не было дома – работала всё время. Одинокой, бедной, ей самой приходилось заготавливать дрова в лесу – самой рубить деревья, обрубать сучья, укладывать брёвна. Как-то поздно вечером вернувшись из леса усталой, голодной, она сказала: «Ленин бы такого не допустил!». Мама тогда просила её молчать. Время для крамолы было не подходящее. Но сама крамола всё же была.
Мы уже переехали жить в Горошиху, когда мальчишка в школе вырезал ножиком на парте «Сталин – дурак». Взрослые все поперепугались. Учителя всё зачистили, даже где-то нашли краску и закрасили стол…
Между тем, дела в доме шли совсем плохо. Соседская малышка умерла. Схоронили летом, когда на кладбище уже появилась зелень. На этом кладбище могла оказаться и я, если бы не больница, да не добрые люди.
Наконец-то закончился этот учебный год, такой тревожный, очень тяжёлый, что для мамы, что для меня. Во время войны отпуска учителям не полагались – теперь, летом, мать должна была работать в колхозе. Рано утром, повязав на голову косынку, она вместе с остальными колхозниками на большой лодке уплывала на другую сторону Енисея. Там были покосы. Возвращались они поздно вечером, часов в двенадцать. Так продолжалось всё лето. Нам, деревенским ребятишкам, было хоть голодно, зато вольготно. Именно летом, ближе к осени, мы почему-то переехали в дом Лидии Платоновны. Может потому, что не было денег на жильё, может потому, что за мной требовался уход. Комнаты отдельной нам не было. Просто один угол в большой комнате отгородили шторой.
За лето работы в колхозе мама заработала два ведра картошки. В конце августа её вызвали в Туруханск, по учительским делам. Пока её не было, я спала очень чутко. Раз ночью проснулась и увидела, как из нашего угла выходит лиса. Занавеска так и качнулась по её хвосту. Я так напугалась, что до утра уже не уснула. Чуть свет, я рассказала о происшествии Лидии Платоновне, я звала её тётей Лидой. Она, конечно же, рассмеялась, сказав, что весь ночной кошмар мне привиделся, и ни какая лиса в дом залезть не могла. А потом серьёзно добавила:
-– Что же ты, Галя, ко мне не пришла? Я ведь не сплю по ночам...
В последствие я убедилась, что это так и есть. Ночами она сидела на кухне, куря папиросу за папиросой. О чём думала женщина? Кто её знает. Наверное, о сыне, который был на войне, о своём бывшем гражданском муже Иосифе, а теперь великом Сталине…
Мама вернулась из Туруханска с известием – её переводят учительствовать в Горошиху, которая ещё севернее Ангутихи. Такие переводы учителей были не редкостью. Никто сильно не печалился. Просто собирали нехитрый скарб и с надеждой, что следующая зима будет не такой длинной и холодной, а учебный год пройдёт спокойно, ехали на новое место. Для нашей семьи переезд в Горошиху стал благом – ведь там была школа семилетка! Прожили мы на новом месте целых пять лет, пока маму вновь, в одночасье, не перевели в Верхнеимбатск. И я уже свою Горошиху, ставшую моментально родной, больше никогда не увидела.
Казалось бы, что с переездом в Горошиху, наше общение с Лидией Платоновной должно было закончиться. Но этого не случилось. Где-то через год она сама приехала в Горошиху. Прекрасно помню, как она, в плюшевой куртке, зашла к нам в избу, как сидела на табуретке, как вела неторопливый разговор с мамой. Вдруг, повернувшись ко мне, сказала:
-– Галя, ты вот Вальке моей писала, так мы письмо все читали. Интересно было. Поехали, погостишь немного у нас. Поди, соскучилась.
Почему-то мама согласилась отпустить меня в гости. Хотя мне это было странно, ведь я себя считала незаменимой работницей по дому, и не представляла, как они с братиком будут без меня справляться. Тем не менее, я опять оказалась в Ангутихе, где у нас с дочерью Лидии Платоновны началась полная свобода в самый лучший месяц лета – июль. Мы, дети, вольной ватагой появлялись то у реки, то в лесу, то на покосах, где работали взрослые. Помню Лидию Платоновну во время обеда. Она полулежит на земле, чуть поодаль от остальных колхозников, отдыхает. Сама худенькая, в ситцевом платье голубоватого цвета, на голове белый платок повязан концами назад, как у молодицы. Лицо светлое, какое-то особенное. Я, десятилетняя девочка, невольно залюбовалась ею…
Каникулы кончились быстро. Приехала Ольга, средняя дочь Лидии Платоновны. Погостила немного, а потом забрала меня с собой, чтобы довезти до дома. Так и закончилось моё общение с Лидией Платоновной. Правда, когда мы из Горошихи насовсем перебирались в Верхнеимбатск, то проезжали Ангутиху. Даже довелось выйти на берег. Мы видели, как Платоновна стояла на каменистом берегу, смотря вдаль, ждала кого-то. Теперь я думаю, что могли бы подойти к ней, поговорить. Но, видимо, тогда мы и не предполагали, что видим её в последний раз.
Со слов мамы я знаю, что Лидия Платоновна умерла рано, где-то в шестьдесят лет. Мне случалось читать воспоминания Светланы Аллилуевой, дочери Сталина. Читала внимательно, но никаких упоминаний о Лидии и её сыне не нашла. Но кое-что мне всё же попалось. Воспоминания человека, не помню фамилии, который занимался воспитанием детей Сталина. Так вот он писал, что Иосиф Виссарионович иногда вспоминал ссылку в Сибирь, хвалил местные баньки и женщину, которая умела их топить.
Кстати, о местных баньках. Уверена, что они и сейчас никуда не делись, а тогда, в моё далёкое военное детство такая вот банька стояла недалеко от нашего дома. И хорошего я в такой баньке ничего не помню. Тесная, с маленьким окошечком. В углу, в печке, огонь Наваленная груда камней. Рядом – бочки с водой. В одну из бочек бросают раскалённые камни – вот тебе и горячая вода. Вот такая банька, по-чёрному. Весь дым идёт внутрь, поэтому ни к чему нельзя прикоснуться. На стенах – толстенный слой сажи. Поэтому, когда Сталин вспоминал о баньках, то не в них было дело. Просто помнил и любил он женщину Лиду, которая скрасила его ссылку, родила детей. Да и не возможно было её не любить! Молчаливая, сдержанная, а сердце – золотое, доброе.
Как-то, давно, по телевидению была передача «Женщины в жизни Сталина». Вспомнили и показали фотографию Лидии Платоновны. Со снимка смотрела уже пожилая женщина, на голове – тёплый платок, повязанный по-старушечьи под подбородок. Я даже не узнала её. Не такой мне вспоминалась Лидия Платоновна, не такую я её знала.
Всё когда-нибудь заканчивается. Кончилась и эта страшная война. Если честно, то весной 1945 все ждали конца войны. В Горошихе не было проводного радио, зато был радист, который получал все вести с фронта. Он и сообщил нам сначала о смерти Гитлера, а потом о Победе. Этот день, 9 мая 1945 года, навсегда врезался в память. В то утро мама разбудила меня пораньше – отправила за молоком к Савельевым, жившим выше нас по ручью. Обратно иду медленно – весна, на улице грязно и скользко, боюсь упасть и разбить банку. Вижу, как к нам в окошко стучится жена радиста. Сразу стало понятно – вести с войны. Я уже не ползла, я летела. Когда забежала домой, увидела быстро одевающуюся маму... Люди мигом узнали о конце войны. Все высыпали на улицу, шумно кричали. В школе отменили занятия. Учеников и учителей собрали у школы, все вместе, колонной двинулись по главной и единственной улице Горошихи к клубу, где уже собрались остальные жители станка. Начался торжественный митинг. Лица людей сияли. Но, к своему удивлению, я увидела, что наша соседка, Татьяна, мать десяти ребятишек, плачет, даже не скрывая слёз. Это было странно. Я не понимала тогда, что взрослым было от чего плакать. У той же тётки Татьяны муж так и не вернулся из трудармии, как не вернулись и другие бывалые охотники не только из Горошихи. но и из других станков. Митинг закончился, а народ всё не расходился. Кто-то крикнул, что на Потыльском яру уже сухо. И вот вся толпа уже пробирается через рыхлый снег на оттаявшее место. Развели костёр. Мы, ребятня, всё не могли успокоиться, бегали, кричали. Не помню сколько эго продолжалось.
Это была общая Победа, наша в том числе. Там, на фронте солдаты отдавали жизни, здесь в тылу, люди работали до обмороков, голодали, болели, но всё же вносили свою лепту в приближающуюся Победу. Заплатив страшную цену в 28 миллионов жизней, мы всё-таки победили. Мы победили во имя жизни! Мы выжили во имя своей малой Родины!
Галина Дутчак (Куриленко).
Маяк Севера, № 36, 12.08.2008; № 37, 19.08.2008.