


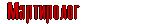
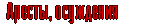



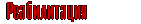
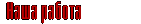



Много лет проработала врачом на Красноярской железной дороге Наталья
Андреевна Куциенко. Ныне она на заслуженном отдыхе, но пациенты до сих пор
вспоминают врача, которая умела лечить словом.
Наталья Андреевна рассказывала о своей жизни легко и откровенно, но при этом не
уставала оговаривать: вот это не надо писать, об этом я тоже не хотела бы...
Когда я прикинула, о чём из богатой событиями и интересной жизни бывшего врача
мне всё-таки можно рассказывать, то получался какой-то школьный пересказ.
Судьба, укороченная до размеров анкеты. Вроде бы никаких тайн Мадридского двора
не поведала мне Наталья Андреевна о своей семье и работе: в предвоенную
сталинско-ежовскую эпоху многие оказывались в похожей ситуации, но, видимо,
привычка не афишировать факты и события собственной жизни слишком прочно въелась
в плоть и кровь наших людей. И даже последующие реабилитации и общее послабление
режима не убедили советский народ, мы, как и тогда, ожидаем от власти подвоха: а
ну как аукнется наша откровенность? Так что, читатель, памятуя об ограничениях,
наложенных на авторское перо, приготовься самостоятельно догадываться, что стоит
между строк в судьбе этой выдающейся женщины.
А ещё, чтобы не брать на себя ответственность за захваливание, я уступлю это право бывшим коллегам Натальи Андреевны. Пусть они расскажут, каким она была врачом и товарищем.
Татьяна Ивановна Кленина, заведующая терапевтическим отделением дорожной поликлиники, считает себя в какой-то мере ученицей Натальи Андреевны. Когда в 60-х годах Татьяна Ивановна совсем молоденьким врачом пришла работать, ещё действовала система наставничества. Вот таким наставником и стала для неё Наталья Андреевна, где-то подсказывала, помогала действовать с учётом железнодорожной специфики лечебного заведения.
— Когда при мне начинают говорить: вот тот-то интеллигент или тот, я сразу вспоминаю Наталью Андреевну. Уж она поистине была интеллигентом. Особенно это качество проявлялось в отношении к больным. Всегда доброжелательное, ровное отношение ко всем без исключения.
Думается, коллеги Натальи Андреевны не ошибаются, выделяя интеллигентность как одно из её отличительных качеств. Все мы родом из семьи, говорят психологи, подразумевая, что в процессе социализации мы впитываем стереотипы и особенности поведения, свойственные нашим родителям. Так, отношения между родителями Натальи были очень уважительные и бережные. В их семье любили бывать гости, особенно на Рождество. В отличие от других, в доме у Иоакиманских устраивали для детей ёлку. Самодельные игрушки, хлопушки, песни хором и море смеха.
По статусу семью Натальи Андреевны по тем временам относили к служащим. Мама окончила гимназию, папа был юристом. Отец прекрасно пел. Был глубоко верующим человеком. Трое детей воспитывались, сызмальства впитывая нравственные устои. Гонения на религию ещё только начинались, так что стоящий неподалёку от школы храм дети посещали свободно. Прибегали порой просто так — посмотреть. Каждый раз оставалось ощущение чего-то большого и прекрасного, рассказывает Наталья Андреевна.
Счастливое детство закончилось в одночасье. Мама Натальи Андреевны, вынужденная теперь в одиночку тащить груз забот о семье, устроилась прачкой в туберкулёзный диспансер. Работа была в радость. Но через год Наташа решила попробовать собственные силы и поступила сразу в два вуза: медицинский и государственный университет. Прекрасная память позволяла, прочитав текст единожды, тут же дословно пересказать и надолго запомнить. Выбрала университет, но, когда пришла забирать документы из меда, ректор не захотел отпускать талантливую студентку. Угрозами чуть не довел до слёз, заставил остаться. Правда, эти слёзы по поводу выбора профессии были первыми и последними.
На железной дороге старая гвардия ещё помнит, как эта хрупкая, миниатюрная женщина работала ревмокардиологом в дорожной поликлинике на станции Красноярск. В 1991 году Наталья Андреевна вышла на пенсию, но с поликлиникой, ставшей более чем за 30 лет родным домом, не рассталась. Молодые врачи и медсёстры терапевтического отделения прекрасно её знают и каждый год поздравляют с Днём Победы. Татьяна Ивановна говорит:
— Фронтовое прошлое коллеги — это и наше достояние. Молодёжь охотно слушает рассказы Натальи Андреевны.
Война в её жизнь вошла неожиданно, как, впрочем, и в жизнь каждого советского человека. Последний экзамен в институте, и вся жизнь впереди... Радужные надежды, амбициозные планы рухнули. Собирали деньги на выпускное фото, но не стали фотографироваться, отдали на военные нужды. А потом всем курсом раз за разом осаждали призывной пункт. Боялись, что вот месяц-два, и война закончится и повоевать не удастся.
Наталью взяли в томский госпиталь, как самому молодому врачу поручили заниматься лечебной физкультурой с выздоравливающими ранеными. Она занималась, а сама с тоской читала письма с фронта: подруга писала, что делает операции. Вот ведь настоящая работа, думала Наташа.
Однако дошла очередь и до Натальи Андреевны: её очередная просьба отправить на фронт была удовлетворена. Направили хирургом в 82-ю Краснознамённую трижды орденоносную стрелковую дивизию. И сразу её дивизия была брошена на прорыв. Работы было столько, что от усталости еле передвигали ноги. Жили и оперировали в землянках. Раненые поступали один за другим. Сегодняшним врачам, которые оперируют один, реже три раза в день, этот поток в триста человек сложно даже представить. Пугающая ампутация казалась самой лёгкой операцией.
Однажды в районе Западной Украины чуть не попали в плен. Всю ночь подвозили раненых. Когда закончили последнюю операцию, уже светало. И вдруг тревога: немцы обошли их с тыла и совсем близко. Наталья Андреевна оказалась в последней машине, которая вывозила людей с передовой. А та всё не заводилась. Единственный пистолет (врачи часто отказывались носить оружие) был у завхоза. И вот женщины (врачи, медсёстры) начали распределять, в кого по очереди он должен будет стрелять, если немцы подойдут совсем близко. Плена боялись больше смерти. Перед глазами стояла Лиза-связистка. Когда её нашли, истерзанную и выброшенную немцами, у девушки были выколоты глаза, а на груди вырезана звезда.
Много лет проработав в железнодорожном подразделении, Наталья Андреевна была на хорошем счету во врачебно-санитарной службе. Вспоминает Михаил Васильевич Явися, долгое время бывший начальником службы:
— Как-то прямо в поликлинике у пациента случился инфаркт. Когда больно, люди ведут себя по-разному. Этот пациент сильно кричал, так, что сбежались посетители. «Что же ты так орёшь?» — не выдержав, спрашиваю его. А Наталья Андреевна за него отвечает: «Это не он, это инфаркт кричит».
На войне страшнее всего были не бомбёжки, а то, что гибли люди. Красивые, молодые, сильные. Им бы жить, дружить с девчонками, а не лежать на столе под ножом хирурга. Запомнился один красивый паренёк. Его привезли ночью, в тот момент, когда на новом месте (в Польше) только начали разворачивать госпиталь. Часть вещей перевезли, а часть должна была подъехать позже. Раз привезли раненого, то надо оперировать. А этот на волосок от смерти, так что медлить нельзя, надо ампутировать ногу.
— Рита, пилу, — привычно приказала Наталья Андреевна. А медсестра в ответ: «Нет
пилы». Пила вместе с другими медицинскими инструментами задерживалась с обозом.
В наличии оказалась только специальная проволока для удаления фаланг пальцев.
Вместо обычных пяти минут операция длилась два с половиной часа. У врача и
медсестры текли слёзы, так жалко было парня. Они-то понимали, какие мучения он
испытывает. А боец всё время, пока шла операция, только повторял, словно
извинялся: «Вы уж работайте, товарищи врачи, я потерплю».
Сейчас Наталья Андреевна на пенсии, но к ней до сих пор идут за медицинским
советом. Таких диагностов, как она, поискать надо. Но главное, что лечить она
умеет словом. Спокойно выслушает, поговорит с человеком, улыбнётся, и больному
становится легче. Вот такая она, наша легендарная личность. С большим сердцем и
даром лечить.
Ярослава Славина
Красноярский железнодорожник, № 36, 23.09.2005.