


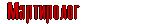
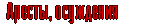



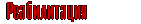
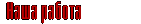



Судьбы людские
Я от многих немцев слышала, сколько пришлось им пережить в те годы.
В 1930 году в деревне, недалеко от Саратова, десятой в семье родилась Гинтер Наташа. Училась в немецкой школе во втором классе, когда в 1941 году их вместе с другими семьями вывезли в Красноярский край. А через год, с оставшимися в живых двумя братьями и невесткой с ребёнком, привезли их в Туруханский район в деревню Мельничное. Рыли землянки, ставили печки и зимовали. Было очень холодно и голодно. Братья охотились, а Наташа бросила учёбу. По-русски говорила совсем плохо. Да и не до учёбы было, чуть с голода не умерла. По нерабочей карточке давали 50 граммов хлеба. Вот с 13 лет пошла работать в колхоз: на полеводстве, сенокосе, на рыбалке до 1960 года. Многие старики и дети умерли за этот первый, самый страшный год. Но она и братья выжили. В двадцать лет вышла замуж за Ивана Яковлевича Беккер, жили уже в Костино. Родились дети, пятеро человек прибавилось в семье. С месяца ребятишек отдавали в ясли, а сами женщины, чтобы не оштрафовали, выходили на работу. Детишек–грудничков бегали кормить через три часа.
Когда вышло послабление и не надо было раз в месяц отмечаться у коменданта, переехали в Туруханск. Дети подросли, стали учиться в средней школе. Семь лет Наталья Георгиевна работала на рыбозаводе, а после, как устроилась техничкой на ветстанцию, так и отработала 33 года. Сейчас она и Иван Яковлевич на заслуженном отдыхе. У них двенадцать внуков и четверо правнуков. Сама всё больше по домашнему хозяйству крутится. А дедушка Иван запряжёт собаку в нарту – и на Енисей, удочки на налимов ставит, добывает помаленьку. Вот так и живут супруги Беккер, а о прошлом вспоминают неохотно. Как говорит Наталья Георгиевна: «Век бы это время не вспоминать, и врагу не пожелаем того, что нам пришлось тогда пережить».
Мое чулковское детство прошло среди ребятишек, родители которых были насильно вывезены ещё детьми, подростками с Поволжья. Бабушка Настасья, Анастасия Осиповна Вершинина, рассказывала: «Высадили с парохода «Мария Ульянова» каких-то стариков, баб с ребятишками. А они не по-нашему говорят, плачут некоторые, и больные есть среди них. Сказали нам, что немцев привезли. Поставили барак дощатый, печки–буржуйки, нары понастроили. Стали они, бедные, зимовать–горевать. В деревне мужики кто на фронте, кто на охоте. А мы боимся: немцы–то, по радио как послушаешь, зверствовали. Да и председательша с комендантом предупредили: кто их знает, что за немцы такие. От голода и холода как повалились они, помирать стали. Женщины в лесу дрова для пароходов пилили, по пояс в снегу бродили. Мальчишек таких, как Федя Фельбуш погнали на охоту, девчонок на рыбалку, ухаживать за колхозной скотиной. А голод страшенный: рыба ещё есть, а хлеба совсем не хватало. Мать твоя Лида с подругой Нюрой, бывало, подползут к бараку и всё в щели заглядывают. Осторожные девки были, с 14 лет в бригаде рыбаков работали, двухметровый лёд пешнями долбили. Ознакомились после все, что–то таскали в барак из дома, подкармливали ребятишек каких. Которые выжили, самые здоровые да крепкие, после рыбачить, охотиться научились. А мы у них учились овощи выращивать, вязать, шить, кружева плести. Не поверишь, у многих на зиму одинарные окна были, печки железные. Почитай, улицу топили. Научились от немцев и окна двойные ставить, печки кирпичные класть. А уж стряпали они, немки, булочки аж воздушные. Самый вкусный хлеб был в той деревне, где пекарихой немка работала».
После войны молодёжь переженилась вся. Кто русский, кто немец, грек, финн или грузин –-не очень–то разбирались. Ребятишек нарожали, а те и вовсе с детства вместе росли. Многие слова немецкие понимали, а уж ругались без запинки: доннерведер и т. д.
Любила я, когда бабушка Амалия Фельбуш, ныне здравствующая, или как называли мои двоюродные сёстры Ирма, Вера и Валя –- «старая мама», пекла куху и немецкие галушки–«штрудели». А Карлушка Гроо, когда мы учились уже в Верхнеимбатском интернате угощал домашней немецкой колбасой, которую ему присылали родители. Самая красивая девочка в нашей деревне в то время была Нелли Гиргидау. У неё сияли огромные тёмные глаза и сама такая милая, спокойная и кроткая. Она и брат её Саша были моими приятелями. Меня тянуло в их маленький дом, который стоял в урез яра, за нашим огородом. Сколько раз, получив хорошую взбучку от матери и бабушки за свои проделки, я босиком, вприпрыжку бежала к ним, перескакивая через картофельную ботву.
Отец их, дядя Костя Гиргидау –- грузин, а мать, тётя Маруся –- немка. Вот не помню, чтобы дома у них скандалили. Всё чистенько, спокойно, дружно. А то, что в домике у них было очень бедно, так сильно богато в деревне нашей никто не жил в те времена.
У самой реки, как идти на поскотину, построили немцы свои дома. Такие славные, чистенькие с белыми кружевными занавесочками и палисадниками, в которых росли цветочки. Держали коров, кур, свиней. Молоко топлёное и сметану продавали пароходским.
Работали в колхозе много. Бог миловал, умирали в деревне редко, а роды у женщин принимал опытнейший «врач–отравитель», ссыльный, как говорили –- «пятьдесят восьмая статья». Звали его Роланд. Мама в то время работала санитаркой в медпункте и после часто рассказывала, как выхаживали ребятишек. Осталась с тех пор в нашем семейном альбоме фотография: на скамейке в палисаднике медпункта сидит Роланд, мама и ещё какая–то женщина. А на доме надпись: чистота –- залог здоровья. Но случилось в начале 60-х годов сильное наводнение. Енисей прорвался в тундру, захватив с собой весь «немецкий посёлок». Сама бегала смотрела, как дома поднимало и швыряло в тальники в жутком водовороте. Остались только те, которые стояли в урез яра да на самом яру. И стали многие немцы и русские уезжать кто в Туруханск, кто в Верхне–Имбатск, кто в Поволжье. А Саша и Нелли Гиргидау уехали в Грузию, и я ничего не знаю о них.
Вот так расстались мы друг с другом и со своим детством.
Г. Капитонова.
Маяк Севера, № 85, 25.10.2001.