












Летом 1944 года передовые части американских войск, наступавших от Венеции в направлении австрийской границы, внезапно обнаружили за поворотом шоссе на Толмеццо десятки выцветших изодранных юрт, рядом с которыми паслись на сочной траве странные мохноногие лошади. Перед юртами сидели на корточках у костров ещё более странные люди — широкоскулые, узкоглазые, в одинаковых гнило-зелёных мундирах вермахта. При виде приближающейся танковой колонны они не проявили ни малейшей тревоги, продолжая отрешённо и безучастно вглядываться куда-то далеко за горизонт, где розовели в закатных лучах вершины Тирольских Альп. «Это, наверное, японцы! — догадался подоспевший на «джипе» лейтенант разведки — Сержанта Такэси ко мне!». Но сидевшие на корточках люди не поняли ни слова из того, что пытался им втолковать сержант-японец. Столь же бесплодными оказались попытки заговорить с ними по-немецки, по-итальянски или по-английски. И лишь захватив в Толмеццо документы разгромленного после короткого боя штаба 6-й танковой дивизии противника, американцы обнаружили, что к ним в плен угодили представители доселе им совершенно неизвестного племени калмыков, живущего где-то рядом с Кавказом в прикаспийских степях. Раскрыв на странице «Кавказ» школьный атлас, лейтенант не смог сдержать возглас изумления: «Боже мой, да как они сюда попали?!»
Примерно такие же возгласы звучали тем летом и в тысячах километров от Италии,
на берегу Игарской протоки. По крутому подъёму с трудом карабкалась от
дебаркадера оцеплённая охранниками вереница измождённых, одетых в невообразимые
лохмотья людей с дочерна прокалёнными солнцем лицами. «Калмыки. Фашистское
охвостье», — коротко отвечали на расспросы конвоиры, сопровождавшие партию от
Красноярска. Игарка получила к тому времени достаточно похоронок, чтобы такой
ответ произвёл мгновенное воспламеняющее действие «Ах, гниды проклятые! Только
их тут и ждали!» — и в пытавшихся закрыться жалкими узлами людей полетели
обломки дерева, грязь, галька. Напрасно охранники пытались отогнать разъярённых
игарчан (вернее, игарчанок, поскольку мужчин в городе почти не было) — только
когда в охваченной страхом толпе калмыков тонко заплакал ушибленный камнем
ребёнок, женщины опомнились и молча разошлись...
Если бы эту сцену мог наблюдать Лаврентий Павлович Берия, он с удовлетворением
потёр бы руки: игарчане вели себя в полном соответствии с разработанным им
совместно со Сталиным планом уничтожения калмыцкой нации. В том, что события и
дальше будут развиваться именно по их плану, у авторов не было никаких сомнений.
Красноречивейшее тому доказательство можно найти в нашей городской библиотеке,
где, открыв 19-й том второго издания Большой Советской Энциклопедии, мы не
увидим ни единого упоминания о калмыках — ни о самом народе, ни о его стране, ни
о языке, который Александр Сергеевич Пушкин назвал среди «сущих языков» своей
отчизны. Вопреки Пушкину сталинская энциклопедия недвусмысленно утверждала:
калмыков не существует. Нет такого народа!
Между тем, придя из разорённой монгольским нашествием Джунгарии в безлюдные прикаспийские степи, калмыки на протяжении веков не раз доказывали свою верность новой родине. Бок о бок с русскими полками сражались они против ливонских рыцарей, а во время Отечественной войны 1812 года стремительные безмолвные атаки калмыцкой кавалерии наводили ужас на наполеоновских гренадёров. Далеко в прошлое — ещё к восстанию Степана Разина — восходили и бунтарские, вольнолюбивые традиции калмыков. Неудивительно, что они всем сердцем откликнулись на обращение к ним Ленина от 22 июля 1919 года с призывом поддержать дело революции. Из сражавшихся на разных фронтах гражданской войны калмыцких полков выдвинулся один из способнейших военачальников того времени О. И. Городовиков, чьим именем ныне назван город в Калмыкии. В годы Великой Отечественной эстафету ратной славы приняла у бесстрашных воинов Революции 110-я отдельная калмыцкая дивизия, — о доблести маленькой, но мужественной калмыцкой нации говорила 21 золотая звезда Героев Советского Союза и свыше 8 тысяч других боевых наград. Всё это было перечёркнуто в 1943 году Сталиным лишь потому, что ничтожная кучка изменников, не составлявшая и одною процента от общей численности калмыков, переметнулась под знамя гитлеровского прихлебателя князя Тундутова, прибывшего в Элисту на броне 6-й танковой дивизии вермахта.
Много работавший с трофейными архивами английский историк Джеральд Рейтлинджер отмечает в своём капитальном труде «Дом, построенный на песке» небезынтересную деталь, позднее подтверждённую на процессе 1982 года в Элисте: значительную часть командиров-садистов «калмыцкого легиона» составили не бывшие феодалы или белогвардейцы, а разного ранга аппаратчики, пришедшие к власти после уничтожения Сталиным старых большевиков Калмыкии. И калмыки не были в этом отношении исключением — достаточно вспомнить палача Белоруссии и Варшавы Бронислава Каминского, прошедшего путь от секретаря райкома на Брянщине до генерал-майора СС и расстрелянного по приказу Гиммлера за… жестокость! Что до рядовых тундутовцев, то, ничуть их не оправдывая, необходимо всё же отметить, что успехи немецкой пропаганды во многом были подготовлены всё той же предвоенной сталинской политикой, от гонений на последователей ламаизма до насильственного перевода исконных кочевников на оседлую жизнь в колхозах.
Заставить полтораста тысяч калмыков расплачиваться за преступления горстки изменников было бы столь же чудовищной несправедливостью, как обвинить всех украинцев в пособничестве Бандере, или зачислить всех русских во власовцы. Но именно это сделал Сталин: 27 декабря 1943 года Калмыцкая автономная республика была упразднена, и войска госбезопасности приступили к массовому «переселению» калмыков за Урал.
Произведённая Берией смена названия наркомата внутренних дел на наркомат госбезопасности представляется в свете известных нам теперь фактов прямым издевательством над смыслом слов. Ибо трудно представить себе организацию более опасную для государства, чем та, которая в страшные дни битвы под Москвой расстреливала опытнейших полководцев страны, а в период напряжённых боевых действий под Ленинградом, на Украине, в Крыму отвлекала целые армии на окружение и депортацию сотен тысяч своих ни в чём не повинных соотечественников! Причём они угонялись не просто в бессрочную ссылку, а на верпую смерть: не требовалось особого дара провидения, чтобы предсказать, чем закончится «бросок» в Заполярье для жителей южных степей, где январская температура редко опускается ниже минус пяти... Вряд ли Иосиф Виссарионович забыл жалобные письма, которые он начал рассылать своим друзьям (позднее им уничтоженным) после первых же месяцев туруханской ссылки: «Милая, нужда моя растёт по часам, я в отчаянном положении, вдобавок ещё заболел, какой-то подозрительный кашель начался. Необходимо молоко, но... денег нет. Милая, если добудете денежки, шлите немедленно телеграфом, нет мочи ждать больше...»
Вряд ли он забыл и то, что друзья тогда поддержали его, не дали окончательно пасть духом, присылали довольно крупные по тем временам суммы денег — поэтому теперь он всеми силами старался создать вокруг «собственных» ссыльных глухую стену всеобщей ненависти и презрения, сквозь которую не могли бы проникнуть ни доброе слово, ни кружка молока, ни одолженный в трудную минуту рубль. Ему казалось, что он навечно скрепил эту стену незыблемым цементом из святых человеческих чувств — отвращения к предателям, патриотизма, памяти о павших. Цемент был и впрямь незыблем. Но им пытались скрепить ложь и клевету, а поэтому стена не могла не рухнуть.
Это произошло в тот день, когда порог одела кадров судоверфи переступил хромой исхудавший калмык в старенькой, аккуратно заштопанной шинели. Из нагрудного кармана он бережно достал завёрнутые в газету бумаги — всё своё богатство — и положил их перед заведующей. Первой была справка, заменявшая калмыкам паспорт. Затем было направление на трудоустройство, выданное игарской комендатурой НКГБ № 578. А последним заведующая развернула свидетельство, выданное старшине Урджеру Мухлаеву в том, что он является инвалидом Великой Отечественной войны II группы и имеет право на соответствующую пенсию. Не веря собственным глазам, заведующая подняла взгляд на стоявшего перед ней солдата. — Так вы не у них воевали? — шёпотом спросила она. — нет. Я воевал с ними, — просто ответил старшина Мухлаев. — Под Вязьмой воевал. Ранили. Вылечили. Потом под Сталинградом воевал. Там сильно ранили. Домой после госпиталя отправили. А из дома — сюда...
Новости и теперь разносятся по Игарке едва ли не со скоростью света, а уж в те времена, когда город наш был вдвое меньше — и подавно. Вскоре все игарчане знали, что большинство «фашистских прихвостней» немцев и в глаза не видело, а те, что видели, вспоминают об оккупации, как о земном аду. Узнали в городе и о том, что у многих калмыков сыновья, мужья и братья освобождают от врага советскую землю, так ничего и не зная о судьбе своих близких. И не одна русская женщина разделила той осенью со своей калмыцкой сестрой очищающие от содеянной несправедливости слёзы, читая при скупом свете керосиновой лампы похоронки — русская калмыцкую, калмычка — русскую...
Расспрашивая старожилов о калмыках, я привык к почти единодушному «Они всегда на тёплые места просились». То есть — на работу в закрытом помещении, куда на Севере охотников всегда достаточно. «И давали?» «А как же. Для них на морозе смерть. Калмыки ведь…» Слова «калмыки ведь…» говорились безо всякого осуждения, как бы с удивлением по поводу моей неспособности понять простейшие, ясные для каждого вещи.
Нет, я не хочу представлять зиму сорок четвертого, как некую идиллию вселенского братства или апофеоз торжества добра над злом. Зло продолжало торжествовать — и не только потому, что в Игарке было не так уж много «тёплых мест», но и потому, что даже в самых наитеплейших из них — прачечных или котельных — калмыки не могли не испытывать губительного воздействия резкой смены климата, привычной пищи, привычного образа жизни. Если бичом «раскулаченных» ссыльных были цинга и тиф, то калмыков десятками косил туберкулёз, против которого были совершенно бессильны щедро предлагаемые игарчанами настои, отвары и даже — высшая ценность тех времён — талоны на усиленное питание. Против туберкулёза было лишь одно действенное лекарство, но именно в нём ссыльным было навсегда отказано. Оно называлось — Калмыкия...
Умер, прожив в Игарке чуть более полугода, старшина Мухлаев. Его жена, Гуча Эрендженовна Мухлаева пережила мужа ровно на три месяца. Не стало большой трудолюбивой семьи Очергоряевых, где умерли все, вплоть до годовалой Гали. Умерла семилетняя любимица улицы Орджоникидзе, смешливая певунья Люба Кукеева, которую за чёрные глаза и звонкий голос все звали «цыганочкой». За гробом «цыганочки» шли родители и соседи — старенький конюх педучилища немец Христиан Христианович Прахт, демобилизованный по ранению украинский учитель Степан (отчества его в 1975 году, когда я записывал этот рассказ, уже никто припомнить не мог) Недбайло и 60-летняя гречанка Лена Анастасиади, приехавшая со станка Погорелка, чтобы вызвать к мужу врача, — святой и горестный «интернационал» военной Игарки. Но было в этом интернационале и нечто такое, что не давало злу восторжествовать окончательно: трудно доставшийся Игарке дар сострадать, сочувствовать, понимать чужое горе, как своё. И ещё была в нём вера в Победу, о которой говорили тогда все. Вот она придёт — и всё выправит. И все горести, несправедливости, тяготы останутся позади. Иначе быть не может. Иначе не стоит жить.
Р. Горчаков.
Коммунист Заполярья, № 81, 7.07.1988; № 82, 9.07.1988.

На снимке: «На охране причала». Из книги 40000 против Арктики».
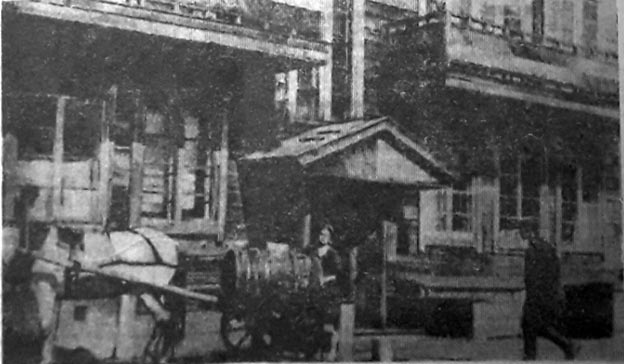
На снимке: Игарка 30-х годов.